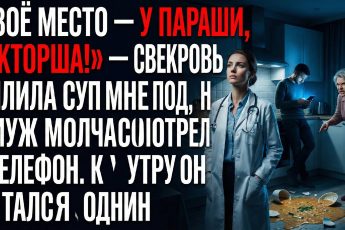— Только не снимай обувь, у меня полы чистые, — предупредила Нина, увидев, как Валентина Петровна уже нагнулась к ногам. Та замерла в неудобной позе и, выпрямившись, посмотрела на Нину сверху вниз, хотя сама была ростом с табуретку.
— Ага. «Чистые». Это ты называешь чистыми? У меня кот на даче аккуратнее ходил, чем ты тут живёшь, — буркнула она и прошаркала в коридор, волоча за собой большой чемодан на колёсиках и ещё один — без колёсиков, но с трещиной на боку и запахом, который потом ещё два дня висел в прихожей.
Нина молча закрыла дверь. Щёлкнул замок, и как будто замкнулось что-то в груди. “На время лечения”, — повторила она себе. “Всего-то три недели. Ну, максимум — четыре. Санаторий не взяли, у неё давление. Домой нельзя — сыро, грибок, всё это…”
— А где у вас ванная? И полотенца? Свои я, конечно, привезла, но хочется хоть понять, где что. Или мне в шкаф залезть? — с иронией спросила Валентина Петровна, поставив пакет с лекарствами на стул. Стул вздохнул и тихо хрустнул.
— Я покажу, — ровно сказала Нина. — Сначала — ванная. Потом — чай. Потом — отдых.
“И потом ты отстанешь”, — мысленно закончила она.
Квартира была Нининой — это важно. Не маминым подарком, не ипотекой с родителями, не “пополам” — а именно Нининой. Ещё до брака, куплена в наследство от бабушки, с ремонтом “для себя” и диваном, на котором Нина провела три бессонные ночи перед переездом, сомневаясь — не слишком ли он яркий? И вот теперь, на этом диване, сидела Валентина Петровна в шерстяных носках и с видом человека, который сейчас проведёт инспекцию не только дивана, но и всей жизни Нины.
— А у вас чай чёрный нормальный есть? Не вот эта вот… с мятой. — Валентина Петровна поморщилась. — От неё у меня изжога. И давление скачет.
— Есть. И чёрный, и зелёный. И с ромашкой. Можем каждый день новый пробовать, как в санатории, — сдержанно улыбнулась Нина.
“Я что, уже с сарказмом разговариваю?” — подумала она. — “Первый вечер, а уже язвлю… Прекрасно.”
Антон пришёл поздно. Цветов не принёс, настроение — будто уволили. На Нину почти не смотрел. Обнял мать, спросил: “Как доехала?” — и сел за стол с таким видом, будто ему 12, и его сейчас будут ругать за тройку по геометрии.
— Я в твоей комнате постелила, — сказала Нина, убирая со стола. — А сама буду в гостиной. Ничего, привыкну. Спать в компании ковра и телевизора тоже иногда полезно.
— Ну что ты, я могу на кухне, — вскинулась Валентина Петровна. — Там уютно. Только вытяжка шумит. И табуреты эти… деревянные. Не для спины.
— Мам, не начинай, — буркнул Антон.
— А я и не начинаю, — вежливо ответила она, глядя прямо на Нину. — Просто интересно, как тут всё устроено. Вдруг я тоже стану хозяйкой?
— Мам, — чуть громче сказал Антон. — Давай не надо, ладно?
Нина положила губку в мыльницу и медленно вытерла руки о полотенце. “Хозяйкой, говоришь…”
На следующее утро на подоконнике в кухне не было ни лаванды в горшке, ни двух керамических петушков из Стамбула. Зато стоял увесистый стеклянный слон с хоботом вверх.
— На удачу, — сказала Валентина Петровна. — Я всегда его ставлю в кухне. Проверено: у меня с ним давление 140 на 90, без него — все 160.
Нина промолчала.
Позже, уже на работе, она достала телефон и открыла заметку:
«Слон. Хобот. Давление. Перестановка. Вон петушки.»
И ниже добавила:
«Я — не злая. Я просто отвоёвываю квартиру. Свою.»
Вечером она пришла домой и не сразу поняла, что не так. Но потом дошло — табурет в коридоре переставлен, коврик у двери убран. Его не было. Просто не было.
— Мам… а коврик где?
— Коврик? А-а. Грязный он был. Я его в стирку. И вообще — у двери коврики держать неправильно. Вся пыль с улицы — туда. А потом в дом. Я передачу смотрела. Там профессор говорил.
— Мам, у нас нет стиралки для ковриков.
— Значит, на выброс. У тебя ж нет аллергии?
Нина села на тот самый табурет, который скрипнул под Валентиной Петровной. И понял он, видимо, что судьба у него теперь такая — терпеть.
Она посмотрела в пол. Там, где раньше лежал коврик, остался след — прямоугольный, как шрам.
“Три недели”, — прошептала Нина. “Я вытерплю. Но ты мне этот коврик ещё вспомнишь.”
***
На третью неделю ковра по-прежнему не было, а вместо подушек на диване теперь лежал аккуратно сложенный плед цвета «пыльная сирень», с ярлыком «сделано в СССР».
— Натуральная шерсть, между прочим, — с гордостью сообщила Валентина Петровна. — Это тебе не эти твои… как их… икеевские тряпки.
Нина кивнула. Просто кивнула. Ответы она теперь экономила. Её утренние медитации перед зеркалом стали звучать как мантра:
«Не взрывайся. Не реагируй. Это временно. Она старая. Она лечится. Ты взрослая. Ты — хозяйка.»
В пятницу она пришла с работы на час раньше. Редкость. И в коридоре услышала:
— …ну, а что, Антоша, ты сам подумай. Женщина должна быть покладистой. Сколько лет — а детей нет. Может, она и не хочет?
Нина застыла.
— Мам, ну не лезь ты, — тихо ответил Антон, но было в голосе что-то неуверенное. Как в детстве, когда он просил: «Ну давай без манной каши…»
— А я и не лезу, — вкрадчиво продолжала свекровь. — Просто вот у меня подруга есть, у неё сын женился второй раз. С новой — через полгода уже живот. А с первой девять лет жили — и всё никак. Так может, дело было не в нём?
Нина вошла. Медленно, с ключами в руке, как будто сейчас не она дома — а они. И она — гостья.
Антон молчал. Валентина Петровна смотрела ей прямо в глаза.
— Я раньше пришла, — сказала Нина. — Видимо, вовремя.
— У нас тут просто… беседа была, — хмыкнула свекровь.
— Прекрасно. Тогда я пойду… побеседую сама с собой в спальне.
Она пошла, но не в спальню. На кухню. Поставила чайник. Пошарила в шкафу. Нет коробки с улуном. Нет с бергамотом. И даже с шиповником — нет. Остался только «Принцесса Нури» и пара пакетиков «Гринфилда», подозрительно вздутых. Она вытащила коробку и увидела: вместо чая — пузырьки, таблетки, коробочки с надписями «панангин», «лизинострил», «мексидол».

— Мам, ты куда мой чай убрала? — крикнула она на весь коридор.
— Ящики перебирала. Там срок годности у некоторых кончился. Я выбросила.
— Мой шиповник не просрочен!
— Ну, так ты его не пила. Стоял — пылился. Я решила, что он не нужен.
— Ты не хозяйка в этом доме, мама! — не выдержала Нина. — Не тебе решать, что нужно, а что — нет.
Тишина.
— Ой, началось, — пробурчала Валентина Петровна. — «Мама», значит, когда ему удобно, а когда ты — так сразу «не хозяйка».
На следующий день утром дверь позвонила. Нина, в халате, с кружкой кофе, открыла и застыла. На пороге стояла Раиса Аркадьевна — соседка из 42-й, в пуховом жилете и с сумкой, из которой торчал батон.
— Ну что, приняла ты свою императрицу? — усмехнулась она. — А я ведь говорила. Моя-то тоже пыталась у нас порядок наводить. Так я ей тазик дала и сказала — хочешь генеральную, начни с лестницы.
Нина хмыкнула. Пригласила войти. Раиса Аркадьевна поставила батон на табурет и села.
— Я-то к тебе вот зачем. Слыхала, у тебя коврик пропал? — она прищурилась. — Он, кстати, в мусоропроводе торчал два дня назад. Не знаю, чей, но уж больно похожий на твой.
— Ага. Это был мой, — устало ответила Нина.
— И подушки виделись. Твои, с птичками. Я, между прочим, глазастая. Они у Людки из пятого — у той, что всё «на дачу таскает». Она сказала, ей “добрые люди отдали”.
— Ясно, — сказала Нина. — Добрые у нас тут, значит, живут.
Вечером она попыталась поговорить.
— Я понимаю, тебе непросто, — начала Нина. — Ты не у себя дома. Ты болеешь. Но, пожалуйста, хватит выбрасывать мои вещи. Это не санаторий. Это моя квартира. И ты — гость.
— Гость? — тихо повторила Валентина Петровна. — Хорошо. Я — гость. Тогда мне, видимо, и чай наливать ты не будешь, да? И обеды свои — на двоих не готовь. У тебя же тут всё твоё. И подушки, и стены, и даже воздух, судя по всему.
— Не передёргивай, — устало сказала Нина.
— А что ты хочешь? Чтобы я молчала, как рыба? И смотрела, как ты с Антоном отдаляетесь? Как ты ему душу вытягиваешь своим этим — “пространством”? Он у меня раньше смеялся, понимаешь? А теперь — как тень.
— Он — взрослый. И он может смеяться, когда хочет. А не когда ты одобряешь.
— Он мой сын, Нина. Но уже не твой человек, да? Понимаешь?
Вечером Нина записала в телефон:
«Коврик. Подушки. Чай. Он не мой человек. Но и она — не моя мать.»
И ниже:
«Мне больше не жалко быть плохой.»
***
— Вот это вот кресло, кстати, никто уже годами не трогает, — сказала Валентина Петровна, кряхтя и пытаясь приподнять тяжёлую спинку. — Оно же всё пролежалось. Пружины вылезли. Только место занимает.
— Не трогай, — Нина стояла в дверях. Голос у неё был ровный, почти неживой. — Я сказала: не трогай.
— Да что ты всё цепляешься за рухлядь? — повысила голос свекровь. — Это ж просто кресло! Я тут полгода живу — как в музее. Всё “моё, моё”. И кресло — твоё, и воздух — твой, и муж — уже, прости, не очень. Только вот радости в тебе не видно.
Нина молчала. Она не заметила, как поставила сумку на пол. Сумка была полная — из магазина. Картошка, хлеб, кофе и… да, ещё упаковка зефира. Для себя.
— Это кресло мне подарил отец. Когда я поступила. Мы с ним выбирали — ходили по всей Лиговке. Он тогда впервые сказал, что мной гордится. И я… — она запнулась, — я в этом кресле лежала, когда вернулась с выкидышем. Мне было 28. И оно, между прочим, выдержало. И молчало. В отличие от некоторых.
В комнате стало так тихо, что было слышно, как тикали дешёвые китайские часы над дверью.
Тик… так.
Тик… так.
Антон вышел из спальни, взъерошенный. Он потер глаза и посмотрел на женщин, как ребёнок на родителей в разгаре скандала.
— Опять?
— Нет, — тихо сказала Нина. — Всё. Больше не будет.
— В смысле?
— В прямом. Я больше не хочу так жить. С унижением. С пересмотром своих вещей. С ощущением, что я лишняя в собственной жизни.
Антон молчал.
— Я просила. Объясняла. Даже терпела. Теперь — всё. Или вы уходите оба, или ухожу я. Но тогда — нас больше нет.
— Подожди… — он протянул руку, — ну, ты перегибаешь. Мамуля просто…
— Она не мамуля, Антон. Она Валентина Петровна. И гость. И то — временный.
Через полчаса они собирали вещи. Валентина Петровна не говорила ни слова. Только один раз, проходя мимо кресла, бросила:
— Его можно и перетянуть. Ткань уже убитая.
Нина не ответила.
Антон пытался шутить. Предлагал «разобраться на свежую голову». Говорил про “семья важнее”. Она ничего не говорила. Просто стояла у окна, пока чемоданы выносили.
Когда хлопнула входная дверь, квартира вздохнула. Словно отодвинули плотный портьер от окна. Словно нафталин выветрился. Словно ковёр — пусть даже в мусоропроводе — перестал давить на горло.
Она села в своё кресло. С зефиром. С кофе. Положила ногу на ногу.
И заплакала.
Не от горя.
От облегчения.
От пустоты.
Вечером она включила лампу. Свет ложился жёлтыми кругами на диван, на книжную полку, на кресло. Всё стало своим. По-настоящему. Без кавычек.
На столе лежал магнитик из Ялты. Стерлась надпись. Остался только облезлый парусник. Подарок Валентины Петровны два года назад. Тогда они ещё смеялись вместе.
Нина взяла его, подержала… и вернула на холодильник.
Пусть будет.
Память — это тоже граница. Но её не надо охранять. Её надо просто помнить.
На следующее утро Раиса Аркадьевна снова была у двери. В халате. С чашкой в руке.
— Ну? — заговорщицки прищурилась она. — Выселила, значит?
— Не выселила, — вздохнула Нина. — Просто вернула своё.
— Эге! — заулыбалась та. — Хозяйка вернулась, значит?
Нина усмехнулась.
— Да нет. Я, оказывается, и не уходила. Просто меня не замечали.