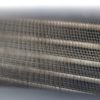— Да чтоб тебя… — Вероника едва успела отскочить в сторону, когда тарелка с омлетом, сделанная её руками в семь утра, со звоном врезалась в кухонную плитку. Яичница — как символ её брака — развалилась на куски.
— Ты где соль видела в этом месиве, а? — голос Игоря был тяжёлым, хриплым и каким-то тошнотворно-знакомым. — Я тебе что, скотина, чтобы траву жевать?
— Может, тебе траву и подсыпать в следующий раз? — пробормотала она, не удержавшись. Тихо, конечно. Чтобы «не нарываться». Хотя и так нарылась — просто тем, что родилась не теми мозгами и вышла за него.
Он, конечно, услышал. Он всегда всё слышит, когда не надо.
— Что ты сказала? — встал, как медведь, пододвинул стул ногой, так что тот скрипнул на весь дом. — Повтори.
— Я сказала… — Вероника подняла взгляд. И вот он, тот момент, когда что-то в тебе щёлкает. Даже не щёлкает — ломается. Так хрустят хрящи, когда растягиваешь пальцы. — …что если тебе не нравится, можешь готовить сам.
— Ага. И в бухгалтерии твоей работать тоже самому? — он фыркнул, схватил с полки хлебницу и пнул её ногой. Хлеб рассыпался по кухне. — Ты вообще для чего живёшь? Чтобы я с утра пораньше это жрал?
Вот это было про неё. Про то, для чего живёт. Вопрос, который она сама себе задала не вчера и даже не в прошлом месяце. Где-то между оскорблением «тупая» и тарелкой, брошенной в стену, он застрял в горле, как кость от рыбного котлета: зачем она вообще всё ещё здесь?
Вероника была бухгалтером в частной конторе. Работу нашла через подругу, когда Игорь в очередной раз сказал, что «дома ей делать нечего, пялится в телевизор — не работа». Хотя, на самом деле, он бесился, когда она начинала хоть немного вырываться из под его железной хватки.
Но и дома ему она не нравилась. И работала — не нравилась. Молчала — бесила. Отвечала — тем более.
— Ты знаешь, сколько у нас налогов за эту квартиру? — ныл он вчера, лёжа на диване с пивом, — Всё на мне! Всё! А ты на своей бухгалтерской копейки играешь в самостоятельность.
Она тогда просто встала и пошла в спальню. Не потому что струсила — потому что устала.
Только вот квартира, между прочим, была вовсе не его. А её. Тётка умерла два года назад, и квартира досталась Веронике. Игорь это знал. Но врал даже себе. Придумал, что он — главный, хозяин, царь в однушке с запахом дешёвого табака и засаленным пультом от телевизора.
— Ты вообще когда последний раз благодарность мне сказала, а? — снова завёлся Игорь за завтраком через день. Теперь он ел сосиски. Её омлеты он больше не ел — демонстративно. Принципиально. «Извинения не было».
Вероника молчала. Просто сидела и слушала, как он смачно жуёт, открывая рот, словно бегемот. Хлюпающий звук резал по мозгу.
— Я, между прочим, тебя на людях защищаю, — продолжал он с набитым ртом. — А ты? Сидишь как статуя, неблагодарная…
— Прекрати, Игорь, — сказала она вдруг. Глухо. Тихо. Но с таким звоном внутри, что ей показалось — звенит даже в ухе.
— Что? — он оторвался от сосиски. — Чего?
— Прекрати вот это. Говорить со мной так, как будто я тебе служанка, а не жена.
— А ты кто, если не служанка? — рассмеялся он. Смех был злобный, издевательский. — Или у тебя новая философия? Прочитала какую-то книжку о женской независимости?
— Нет, просто… — она встала. Подошла к окну. Там, за стеклом, бегали дети. Смех. Жара. Жизнь. Не её, конечно. — Просто устала. Я не хочу так жить.
— Ну так умри, если не хочешь жить, — отрезал он. — Только давай без сцен. Мне на работу через два часа.
Вот это — поворот. Он ей посоветовал умереть. По-семейному, между прочим. Между сосисками и утренним кофе.
Она никому не рассказывала про то, как он давил. Это ведь не синяки, не побои. Это тонкие иголки — психологическое насилие: изоляция, унижение, контроль. Она и сама долго не верила, что это настоящее насилие. Он же не бьёт. Он же просто «мужик с характером».
Когда-то она смеялась с его шуток. Ему тогда было смешно, что она считает себя «умной». Теперь он называл её «сухой бухгалтершей без фантазии», хотя сам каждый вечер зависал в телефонных играх и обсуждал в чатах со своими «пацанами», какой «девке накачаны губы».
— Он тебя хоть раз целовал просто так? — спросила её подруга Люба, когда они встретились в кафе. — Ну вот просто — обнял, поцеловал? Не потому что ты ужин приготовила, а просто?
Вероника не знала, что сказать.
— Ты не живёшь, Ника, — Люба смотрела на неё глазами, в которых была смесь жалости и ярости. — Ты… как в заложниках. В своём же доме.
И в ту же ночь Вероника открыла шкаф и начала складывать вещи Игоря в мусорные пакеты.
— Ты что тут устроила? — рявкнул он, увидев, как она трамбует его рубашки в чёрный мешок.
— Выселяю, — коротко ответила она. — Собственник квартиры — я. Ты здесь никто. Гостил, вот и хватит.
— Ты охренела?! — он рванул пакет, порвал молнию, хватал вещи, разбрасывал по комнате. — Я тебя кормлю, пою, за тебя налоги плачу! Ты без меня пропадёшь!
Она выпрямилась, посмотрела ему в глаза. И впервые не отвела взгляд.
— Без тебя я, может, и не заживу, но хотя бы доживу. До утра, без крика и соли в яичнице.
Он ушёл в два часа ночи. В одних кроссовках, с рюкзаком и пакетиком, где торчали три носка и зарядка от телефона.
Вероника не плакала. Просто поставила на плиту чайник. А когда он закипел, сама себе сказала вслух:
— Вот и доброе утро. Началось. Моё.
— А вы точно уверены, что всё… ну, законно? — Вероника сидела на жёстком стуле в юридической консультации, вцепившись в ручку сумки так, что побелели пальцы. — Он вчера ушёл, но сегодня звонил уже трижды. Говорит, что я нарушила его права… как мужа.
— А квартира на вас оформлена? — молодой юрист с усталым лицом поднял глаза от бумаг.
— Да. В наследство от тёти. Завещание есть. Я не меняла ни собственника, ничего. Он просто жил со мной. Прописан не был.
— Тогда он вам никто. Ну, пока вы замужем — он супруг, но в плане жилья, если нет совместной собственности, — юрист пожал плечами, — не может претендовать. Если, конечно, не докажет в суде, что «вкладывался в улучшения». Он вкладывался?
Вероника чуть не расхохоталась. Только не от радости — от абсурдности.
— Если вы считаете «купил коврик в ванную» и «притащил б/у микроволновку от матери» — то да. Вложился до основания.
Юрист усмехнулся:
— Ну, тогда только моральный ущерб. Но это уже к психологу.
Дома было… непривычно тихо.
Телевизор — выключен. Никакого фонового мата с хоккея, никаких сальных анекдотов, которые Игорь любил рассказывать по громкой связи «Петьке с гаража». Даже запаха носков не было — и тот, как будто, исчез.
Вероника заварила себе ромашковый чай, села на кухне, обняв чашку, и долго просто молчала. Не думала. Не чувствовала. Как будто внутри — пустота. Ни злости, ни радости. Просто тихо.
А потом… потом начались звонки.
Первый день — четыре вызова. На пятый — голосовое сообщение:
— Ника, ты чё, совсем с ума сошла? Ты же не справишься. Кто тебе будет ремонт делать? Кто тебе машину будет в сервис возить? Кому ты такая нужна, кроме меня?
На шестом сообщении он уже хныкал.
— Ну хочешь, я извинюсь? Давай поговорим. Я погорячился. Я тебя люблю, ты чё…
На седьмом — мат. Грязный, мерзкий. Голос этот, ломающийся на крике, был ей до омерзения знаком.
Она выключила телефон.
Я тебя люблю у него значило: мне удобно, когда ты молчишь.
Через неделю объявилась свекровь. Пришла без звонка, с двумя авоськами и лицом, как у прокурора на пенсии.
— Я вот что скажу, — сказала она сразу, даже не раздеваясь, — ты испортила моего сына. Он с тобой стал… другим. Он раньше мужчиной был, а с тобой — тряпка. Ты его гнобишь.
Вероника молча поставила чайник.
— Он всегда был трудным, но в душе — золотой человек, — вещала свекровь. — А ты, вместо того чтобы благодарить судьбу, взяла и выкинула его как собаку. Не стыдно?
— Вы в курсе, — спокойно спросила Вероника, — что он кидал в меня тарелки? Что он говорил, что я — ноль? Что он запрещал мне встречаться с подругами?
— Так это ж эмоции! Мужчины все такие! Ты просто слишком слабая. Надо терпеть. Вот я своего отца твоего мужа терпела 38 лет. И ничего. Похоронила как родного.
— Я не собираюсь никого хоронить, — отрезала Вероника. — Тем более — заживо. Пейте чай, Мария Григорьевна, и уходите. Или просто уходите.
Свекровь надула губы, встала, и швырнула фразу напоследок:
— Старость твоя к тебе ещё придёт. И вот тогда ты узнаешь, что такое одиночество.
А одиночество… оно, знаете ли, не так страшно, как когда ты не один, но всё равно чувствуешь себя ничтожеством. Куда хуже — это быть рядом с человеком, который делает всё, чтобы ты себя ненавидела.
Вероника впервые за много лет позволила себе маленькое удовольствие — высыпаться. Лечь не в одиннадцать, а в девять. Сходить на маникюр, хотя раньше Игорь ворчал: Это всё понты. Лучше бы картошки купила.
Она стала встречаться с Любой. Просто гуляли по району, болтали, смеялись.
— Слушай, — сказала Люба однажды, — а ты вообще умеешь просто жить без страха? Без «он разозлится», «он скажет», «он не поймёт»?
— Я не знаю, — честно призналась Вероника. — Мне кажется, я забыла, как это.
А Игорь всё не сдавался.
Однажды она открыла дверь — и он стоял с огромным букетом, килограмм на семь. И с банкой икры.
— Давай сначала, а? Ну чего ты, Ника. Мы же с тобой столько прошли… — говорил он голосом, каким разговаривают с больными животными.
— Мы? — Вероника подняла брови. — Ты со мной прошёл путь от человека до демона. А я… я дошла до точки.
— Я изменюсь, честно! — воскликнул он. — Я даже на терапию готов пойти! Ты только… пусти обратно. Дома мне не хватает тебя.
— А мне дома тебя не хватало. Всё это время, — сказала она. — Ты был, но тебя не было.
Он полез к ней обниматься. У неё в глазах мелькнуло что-то. Мгновенно. И она шлёпнула его ладонью по щеке.
— За всё. За то, что я когда-то поверила, что это — любовь. За соль в омлете. За твой диван. За мою вечно дрожащую руку, когда я слышала, как ты заходишь в дом. Иди. Обними свою мать. Меня — больше не надо.

На следующий день Вероника пошла в салон и обрезала волосы. Не потому что «новая жизнь — новая стрижка». Просто захотелось. Легче стало, как только отрезали хвост. Как будто не волосы, а страхи.
А вечером пошла в спортзал.
Там был тренер. Высокий, седой, с чуть подбитым голосом и глазами, будто он когда-то тоже многое пережил.
— Только не предлагайте мне пресс качать, — пошутила она, — я в последний раз его качала, когда СССР ещё существовал.
Он улыбнулся. Как-то просто, по-человечески.
— А вы, между прочим, ничего. Живые глаза. Видно, что в бой шли.
— Вышли, — сказала она. — Не в бой. Из него.
Он подмигнул:
— Это уже победа.
— Я тебя умоляю, Ника, надень что-нибудь попроще, — уговаривала её Люба, пока Вероника стояла у зеркала и выбирала, что надеть в суд. — Ты же не на бал. А то, не дай бог, этот козёл ещё скажет, что ты с шиком живёшь, и потребует алименты в обратную сторону.
— Он уже потребовал, — фыркнула Вероника. — Через суд. Представляешь? Алименты. За моральный ущерб и «вложенные годы».
— Он вложил в тебя только злобу и запах перегара, — буркнула Люба. — И то — с перебором.
Суд был в районе, где всё пахло линолеумом, страхом и печёными пирожками из буфета. В коридоре суда Вероника села на жёсткий стул, напротив двери зала. Сердце било, как молоток. Руки холодные.
И вот — он. Вошёл с видом мученика. В чистой рубашке, с галстуком, и… с женщиной лет сорока пяти, крашенной, с выпирающей грудью и вызывающим взглядом. На женщине была юбка, которая бы и на выпускной выглядела вызывающе.
— Вот она, — громко сказал Игорь. — Та самая. Разрушительница семейных ценностей.
Вероника подняла голову. Спокойно.
— Здравствуй, Игорь. Надеюсь, ты ей не объяснил, что теперь она будет виновата в недосоленном омлете?
Женщина прищурилась.
— Я Маргарита. Его гражданская жена. Мы вместе уже полгода. Игорь рассказывал о вас. Говорит, вы… непростой человек.
— Не ошибся, — усмехнулась Вероника. — Я и правда непростая. Я — та, кто больше не боится.
Суд длился два часа. Игорь рассказывал, как он “ремонтировал розетки” и “вывозил мусор”. Его адвокат тёр о “совместном быте” и “моральной травме”. Вероника сидела, молча сжимая ручку. Сначала — слушала. Потом — начала отвечать. Спокойно. Чётко. Без эмоций.
— У него нет ни прописки, ни вложений в квартиру. Дом не куплен в браке. Имущество не общее. Он — жилец без прав. Я просто терпела. Теперь — перестала.
Судья, женщина за пятьдесят, с усталым лицом, посмотрела на неё с пониманием.
— Вероника Андреевна, вы готовы под присягой подтвердить, что Игорь Борисович применял к вам психологическое давление?
— Да, — твёрдо сказала она. — Я это могу подтвердить не только под присягой, но и любому участковому, который хоть раз слышал наши скандалы. Если бы психологическое насилие оставляло синяки — я была бы вся синяя. С головы до ног.
Выходя из зала, Игорь вдруг остановился рядом.
— Ты счастлива, да? Думаешь, победила? Да кому ты нужна? Стареющая, злая, вечно уставшая. Никому.
Вероника посмотрела на него.
— А тебе не пришло в голову, что я не хочу быть нужной? Я просто хочу быть свободной. Без «ты тупая», без тарелок, без омлетов с солью и без твоей мамы, которая считает, что терпение — это форма любви.
Он хотел что-то сказать, но его «гражданская жена» его перебила:
— Игорь, ты говорил, ты просто снимал у неё жильё! — воскликнула Маргарита. — Ты мне врала, получается?! Ты сказал, что она «одержимая баба, которая не может тебя забыть»!
Вероника хмыкнула.
— Маргарита, вы же взрослая женщина. Как можно верить человеку, который кричал на меня из-за того, что чай недостаточно горячий? Не бойтесь. Он и на вас найдёт повод для крика.
Они ушли, ругаясь.
А Вероника вышла на улицу, вдохнула воздух, который вдруг показался другим. Лёгким. Тёплым. Как будто мир наконец стал шире, чем кухня с шатающимся столом.
Телефон завибрировал.
СМС от тренера:
Сегодня занятие в 7. Будешь?
Она улыбнулась.
Буду. И, возможно, останусь.