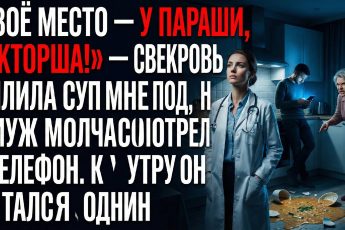Поначалу всё казалось, как в кино. Только не в том, где все целуются в дождь под аккордеон, а в другом — где героиня на втором часу фильма понимает, что зря вышла замуж. Только у меня это осознание пришло не на втором часу, а на втором месяце брака.
Я — Анна. Мне тридцать два. Самостоятельная, упёртая, с квартирой от бабушки на Тульской и зарплатой, которой хватает на нормальную жизнь, без «мама, закинь на карту». Дмитрий — мой законный супруг, тридцать восемь, инженер, добрый, спокойный… и абсолютно слепой, когда речь заходит о его маме.
Ох, Валентина Степановна… Я мечтала назвать её мамой, пока не узнала, что её идеальное представление о невестке — это домработница, кухарка, суррогатная мать и донор почки в одном лице.
Первые тревожные звоночки начались сразу после свадьбы.
— Ну что, Анечка, в вашей двушке, наверное, теперь будет детская? — с ласковой миной поинтересовалась Валентина Степановна, аккуратно раскладывая свои баночки с соленьями в нашем холодильнике.
— Не думаю, что пока это в планах, — ответила я, пытаясь спрятать своё раздражение за вежливой улыбкой.
— А зря. Время-то идёт. А то, не дай Бог, потом поздно будет. Ты же не двадцатьлетняя уже.
— Мам, может, не дави на неё, а? — вмешался Дима, но как-то вяло. Как будто он не защищал, а просил не портить погоду.
Тогда я сделала вид, что не услышала, но мысль закралась: а как, собственно, будет жить эта «новая семья»? Сколько людей будет принимать решения в моей квартире?
А потом пошло весело. Она приезжала почти каждые выходные. Иногда одна, иногда с отцом Димы — Геннадием Ивановичем, молчуном с тяжелым взглядом. Он говорил мало, но когда говорил, хотелось уйти из комнаты.
— Это неправильно, что у вас всё записано на Аню, — сообщил он однажды, налив себе чай в мою кружку из сервиза. — Семья должна быть на равных.
— Мы же вместе покупали эту квартиру, — спокойно сказал Дима.
— Ну да, но у тебя-то денег было меньше. Всё же Анин первоначальный взнос был из той квартиры. От бабушки. А теперь эта двушка оформлена только на неё. Ты, сынок, подумай…
Я на автомате помешивала сахар в чашке. Дрожала рука.
— Геннадий Иванович, вы хотите, чтобы я оформила половину своей квартиры на Дмитрия? — переспросила я, глядя прямо в его глаза.
— Не на него. На семью. А потом уже можно будет и бабушкину сдавать — хороший доход.
В этот момент у меня перед глазами пролетела сцена из фильма про маньяка с топором. Только топор был у меня.
— Мам, пап, — поднялся со стула Дима, — вы чего вообще начинаете? Мы взрослые, сами разберёмся.
— Сам разберись тогда! — повысила голос Валентина Степановна. — Она тобой вертит! Сначала всё на себя записала, теперь сидит, как паук на кладке!
Паук на кладке. Я чуть не поперхнулась. Стало даже интересно, как это выглядит. Наверное, очень солидно.
Я промолчала. Не потому, что испугалась, а потому, что если бы открыла рот, то сорвалась бы в такой монолог, что соседи бы аплодировали.
Но это был не финал. Это было только начало.
Через неделю Дима вернулся с работы, сел за стол и выдал:
— Слушай, а может, действительно, оформить всё пополам? Ну просто чтобы родителям было спокойнее…
Я застыла.
— Ты серьёзно?
— Ну да. Мы же семья. Какая разница, на кого оформлено? Всё равно вместе живём.
Я медленно выдохнула. Потом встала и подошла к окну. Меня трясло. Не от холода — от абсурда.
— Знаешь, — сказала я тихо, — раз ты так ставишь вопрос, давай лучше разведёмся. И всё. Спокойнее будет всем.
— Ты что несёшь, Ань?! — вскочил он. — Развестись из-за каких-то бумажек?
— Это не бумажки. Это моя жизнь. Моя квартира. Моя безопасность. Ты хочешь, чтобы я отдала её, потому что твоей маме так спокойнее?
Он замолчал. Поджал губы.
— Я просто не понимаю, почему ты так держишься за эту квартиру. Мы же семья.
— А ты, похоже, уже с ней. С мамой. Так и живите.
Собрала вещи я быстро. Приехала к себе — в ту самую бабушкину квартиру. Старая мебель, обои, которые я хотела поменять ещё до свадьбы, и огромная пустота. Но я дышала.
Через день он приехал. Постоял у двери. Постучал. Я открыла. Он стоял с букетом.
— Я не хотел тебя обидеть.
— Но ты хотел забрать мою квартиру.
— Это не я, это мама… Просто… мне сложно между вами.
Я усмехнулась.
— А мне легко, думаешь?
Он опустил голову.
— Прости.
— Иди домой, Дима. К своей семье. А я в своей останусь.
Он ушёл. А я захлопнула дверь. Не на замок — на два.
Если кто-то скажет, что развод — это всегда трагедия, пусть сначала попробует месяц прожить с Валентиной Степановной. Потом посмотрим, кто у кого первый нерв сгорит. А если серьёзно — нет, я не рыдала. Мне не было стыдно. Мне было… досадно. Как будто ты купила хорошие кроссовки, а они через неделю начали скрипеть. И вроде выкидывать жалко, но носить — уже унизительно.
С Дмитрием мы официально развелись за шесть недель. Без истерик, без скалок и «ты мне жизнь сломал». Всё по-взрослому. Судья посмотрела на нас, как на двух зануд, которым лень скандалить.
— Совместного имущества нет?
— Нет, — хором ответили мы.
Я сдержала ухмылку. Мой «паук на кладке» таки остался при своей норе.
Прошёл месяц.
Я училась быть одна. Снова. Как будто вышла из гипноза, в котором жила чужой жизнью. Без чужих банок на полках, без запаха валерианки по выходным, без комментариев:
— Анечка, а вот в наше время… — да мне всё равно, что в ваше время, честно!
Я ходила на работу, иногда в спортзал, чаще — домой. Бабушкина квартира потихоньку снова становилась моей. Я даже купила новый диван. Первый диван, который выбрала сама. Без «давай посоветуемся». Без «а маме не понравится». Чудо!
А потом… он снова позвонил.
— Аня, привет. Извини, что поздно. Можно поговорить?
Голос у него был другой. Сломанный.
Я вздохнула. С одной стороны — хотелось послать. С другой — я не монстр. В конце концов, это человек, с которым я прожила два года. Даже если в них было всего полгода счастья.
— Говори.
— Я… — он замолчал, — можно я приеду?
Я прикинула. В субботу. Девять вечера. Значит, что-то случилось. Иначе бы не осмелился.
— Приезжай.
Он стоял в дверях с пакетом, в котором торчали чипсы и бутылка дешёвого красного. Смотрел, как будто пришёл не к бывшей жене, а к нотариусу — переписывать душу.
— Я долго думал, — начал он, усевшись на край дивана. — И понял, что они мне всё испортили. Мама, папа, их «семья». Я не понял сразу, как это выглядело со стороны. А теперь смотрю — и стыдно.
— А квартира? — я не выдержала.
— Забудь. Я дурак. Честно. Меня в какой-то момент затянуло. Они же всё время на мозг капают. Что не по-мужски, что «с бабой живёшь, а своё не имеешь». А я и повёлся.
— Потому что хотел своё?
— Потому что хотел тебя, а не получилось. Всё время пытался угодить им и тебе. А вышло, что предал тебя.
Я молчала. Говорил он искренне. И вроде бы раскаялся. Но у меня внутри было как в старом доме: сквозняки, и кое-где всё ещё пахнет затхлым.
— Так что теперь?
Он поднял глаза.
— Я снял квартиру. Небольшую. Нашёл работу получше. Да и в целом… хочу понять, кто я без них. Без их контроля. Без этих семейных собраний с квашеной капустой и «мы лучше знаем».

— И как?
— Пока страшно.
Он сделал глоток вина и закусил чипсами. Грустно, но по-своему мило. Я подлила себе. Минуту сидели молча.
— А ты как? — спросил он вдруг.
— Словно вернулась в себя. В ту, которую люблю. Без их правил и твоих оправданий.
Он кивнул. И неожиданно сказал:
— Мамке я всё высказал.
— Серьёзно? — я чуть не подавилась.
— Угу. Сказал, что больше жить по их сценарию не буду. Она, конечно, разыграла сердечный приступ. Но батя дал ей валидол и сказал «сама виновата». Представляешь?
Я расхохоталась. Не выдержала. Образ Геннадия Ивановича с валидолом в одной руке и холодной иронией в другой был настолько точен, что аж захотелось пожать ему руку.
— А дальше что?
Он пожал плечами.
— Не знаю. Я ничего не прошу. Просто хотел, чтобы ты знала. Если вдруг когда-нибудь ты…
— Нет. — Я остановила его. — Мы были. Мы прошли. Это урок. Очень нужный. Но второго тура не будет.
Он замолчал. Потом кивнул.
— Я и не рассчитывал. Просто… спасибо, что выслушала.
Он ушёл. И оставил после себя странную тишину. Но не такую, как в первые дни развода. Не злую. Не тяжёлую. А честную.
На следующий день я проснулась и поехала в салон. Постриглась коротко. Стерла всё старое. Как будто подчищала следы. Не потому, что сбежала от прошлого — а потому что освободилась.
Через неделю мне позвонили из агентства. Поступило предложение: сдать квартиру. Ту самую, на Тульской. Бабушкину.
Я подумала. Долго. А потом сказала:
— Нет. Я остаюсь. Пусть вся семья меня ненавидит, но я наконец дома.
С момента последнего визита Дмитрия прошло почти два месяца. Всё было… странно спокойно. Ни звонков, ни сообщений, ни визитов. Даже Валентина Степановна пропала с радаров. Ни тебе проклятий, ни угроз по телефону, ни даже слёзных голосовых с фразой «Анечка, ты ведь тоже женщина, ты пойми…».
Я уже почти расслабилась. Начала жить. Не «переживать развод», не «собирать себя заново», не «переосмыслять ошибки». Просто жить. Ходить на работу. Мыться под громкую музыку. Не объяснять никому, почему я купила третью пару кроссовок за месяц. Не отчитываться, почему деньги с моей карты ушли на мебель, а не «в семейный бюджет».
И вот — утро. Воскресенье. Я в пижаме, с кофе, с сериалом про чужие беды, довольная собой, как кошка после банки сгущёнки.
Звонок в дверь.
Боже, кто в девять утра в воскресенье приходит без предупреждения?
Открываю — и замираю. На пороге стоит Валентина Степановна. В пуховике, застёгнутом до подбородка, с каким-то потрёпанным пакетом и лицом, как будто она пришла не ко мне, а в отдел опеки за внуком.
— Можно?
Я молча отступаю. Любопытство пересилило брезгливость. Слишком интересно, что у неё за квест на сегодня.
— Я не к тебе. Я… к тебе, — уточняет она, заходя и сразу садясь на краешек табуретки, будто её кто-то сейчас будет допрашивать.
Молчу. Жду. Она мнёт в руках пакет.
— Дмитрий… он… короче, у него всё плохо.
О, началось…
— Работу потерял. Съехал с квартиры — не смог платить. Сидит у нас. Отец в бешенстве. Я тоже…
— И вы решили, что я должна…?
— Нет. Я ничего не прошу. Просто… просто ты же знаешь, он не плохой. Он запутался.
— Он взрослый мужик. А я ему не мать.
Она на секунду сбилась.
— Ну вот видишь, — сказала почти шёпотом, — мы ему тоже не помогаем уже. Должен сам выкарабкаться. Но я подумала… может, вы как-то… пообщаетесь?
— Валентина Степановна, — я встала, — я очень рада, что вы наконец признали, что он должен сам выкарабкаться. Вот пусть и карабкается. Но без меня.
— Но он же любил тебя!
— А теперь пусть любит свою ответственность. Я — не благотворительная организация для брошенных сыновей.
— Ты изменилась, Аня, — покачала головой она.
— Я взрослая. И у меня есть границы. Хотя вы их так долго пытались сломать, что, наверное, до сих пор не привыкли.
Она встала. Помолчала. Потом достала из пакета… контейнер с оливье.
— На, возьми. Всё равно выкину.
Я взяла. Просто потому что оливье — это мощнее любых слов.
— До свидания, Валентина Степановна.
— До свидания, Аня. И… спасибо.
— За что?
— За то, что всё-таки не злая ты. Просто уставшая.
Она ушла.
Через неделю Дмитрий всё-таки объявился. Позвонил.
— Ань… прости. Я… хотел сказать, ты была права.
— О, какие признания. Что, у мамы Wi-Fi отключили?
— Нет. Я устроился на работу. Не шик, но стабильно. Потихоньку отложу, перееду. Просто… хотел сказать — ты меня спасла. Твоим «нет». Тогда мне было больно. А теперь — благодарен.
— Дмитрий, я тебя не спасала. Я спасала себя. Ты просто оказался поблизости.
Он усмехнулся. Я услышала это даже по телефону.
— И всё же… если бы не ты, я бы до сих пор слушал маму. И жил бы не своей жизнью.
— Ну так живи теперь своей. Только без меня. Я уже всё пожила.
Иногда взрослость — это не ипотека и борщ на плите. Это когда ты знаешь, что можешь помочь. Но не должен. Это когда ты видишь, как человек тонет, и понимаешь — он умеет плавать, просто ему лень. А ты — не надувной круг.