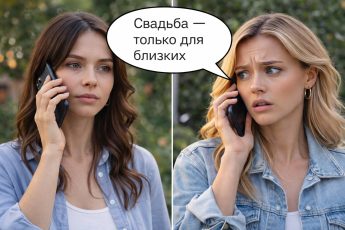Ольга стояла у плиты, помешивая гречку в кастрюле, хотя есть эту гречку никто особо не хотел. Просто оставалось два пакета, срок вот-вот подходил, а выбрасывать — жалко. Так и варила — на автомате, не глядя.
На кухне было душно, несмотря на открытое окно. С улицы тянуло июльским перегаром: смесью нагретого асфальта, перегретых мусорок и редких веточек липы, что всё ещё пытались выжить под окнами их пятиэтажки.
— А я говорю, хозяйка должна быть как пчёлка! — в голосе Валентины Петровны звенела та самая нота, от которой у Ольги каждый раз перехватывало дыхание. — Вон у Инночки всегда пол в ванной блестит, даже когда гости неожиданно нагрянули. И борщик — пальчики оближешь.
— Не все любят борщ, — тихо буркнула Ольга, не оборачиваясь. — И у нас никто не нагрянет, у нас и так каждый вечер как семейный съезд.
Валентина Петровна всплеснула руками, хлопнув по коленкам.
— Ну надо же! Я просто похвалила Иннку, что такого-то! Тебя хвалят — ты злишься, других — тоже не нравится. И как с тобой, Олечка, разговаривать?
— Лучше вообще никак, — выдохнула Ольга. Потом испугалась своей же фразы. Не того, что сказала, а того, как спокойно она прозвучала. Как будто усталость от всех этих кухонных мин уже сделала её нечувствительной.
На табурете возле окна сидела Инна. Хлопала ресницами, крутила чайную ложку в чашке, как будто смотрела вглубь неё и что-то искала — выход, например, или повозку, на которой уехать к чёрту. Сергей не приехал — «голова», сказал по телефону, хотя у него обычно «спина» или «работа».
— Инна, скажи хоть ты! — Валентина Петровна повернулась к дочери. — Ты ж понимаешь, я из добрых побуждений. Учу, советую. Мы ж внуков ждём, а тут… всё не так и не этак…
Ольга поставила кастрюлю на стол с таким стуком, что ложка из чашки Инны вылетела.
— Мы ничего вам не должны, — сказала она и посмотрела прямо на свекровь. — Ни борща, ни внуков. Ни поклонов. У нас не конкурс на звание лучшей жены года.
В комнату в этот момент вошёл Дмитрий — потёртый домашний трикотаж, пятно от кетчупа на футболке и вечное выражение лица «мне бы только, чтобы все не ругались». Он потянулся, зевнул и сел за стол.
— Что тут у вас? — промямлил он, чешу подбородок.
— Ольга опять на мать огрызается, — пожаловалась Валентина Петровна. — Я слово сказать не могу, сразу как в змеиную яму. А Инна — душа. Сидит, молчит. Понимает.
— Может, потому и молчит, что нечего сказать, — бросила Ольга, и, увидев, как Инна сжалась в плечах, тут же пожалела. Но извиняться не стала. Устала.
Дмитрий вздохнул, взял вилку.
— Давайте без крика, а? Мама, ты бы не сравнивала. Оля, ты бы не заводилась. Все взрослые люди.
— Все взрослые, только никто не слышит, — сказала Ольга и вдруг почувствовала себя очень одинокой. Не злой — именно одинокой. Как будто её в этом доме нет вообще. Есть только «не такая, как Инна».
После ужина Инна помогала мыть посуду. Молча. Терла тарелку чуть дольше, чем нужно. Потом вдруг сказала тихо:
— А ты молодец, что сказала. Я бы не смогла.
Ольга глянула на неё искоса. Лицо у Инны было уставшее, с потёками туши в уголках глаз. И что-то в ней дрогнуло — жалость? Сестру всё-таки по-своему жалко. Но ненадолго.
— Тебе, может, и не надо было. Ты у неё — гордость. Ты — правильная.
Инна пожала плечами.
— Это всё видимость. У нас с Серёжей… ну, плохо всё. Он кричит. Дверьми хлопает. Может… руки поднять. Один раз уже.
Ольга замерла.
— И ты молчишь? Почему не уйдёшь?
— А куда? К маме? — Инна усмехнулась. — Ну ты же слышала — ей порядок важнее. Борщ важнее. А я… Я же идеальная.
Ночью Ольга не спала. Дмитрий дышал рядом размеренно, пахло его потом, хозяйственным мылом и мятой. Она лежала с открытыми глазами, глядя в потолок.
— Я устала, — подумала она. — Я как фон. Как подставка под телевизор. Всё держу, всё терплю — а меня нет.
В голове всплывали фразы Валентины Петровны, как попугайчики: «Инночка бы так не сделала», «А вот Серёжа — золотой мужик», «Вы бы детей завели, а не собаку кормили».
Ольга повернулась на бок. Собака, старый двортерьер Грек, спал у ног, посапывая. От него шёл тёплый, пыльный запах шерсти. Единственный в доме, кто ничего от неё не хочет.
Утром она проснулась от стука в окно. Снилось, будто кто-то ломится к ней с улицы. Открыла глаза — тень метнулась за штору. Вскочила, приоткрыла окно. На подоконнике лежала записка. Почерк Инны.
«Я не могу больше. Но и ты не сдавайся».
Ольга скомкала бумажку. Потом развернула. Прочла ещё раз. И положила в ящик с бельём.
Вечером, за ужином, Валентина Петровна снова затеяла разговор:
— Дмитрий, а ты не думал, может, мы квартиру как-то разделим? Ты ведь старший сын, по закону имеешь право. Вот если я, не дай бог, лягу… А то всё на Инну запишется, а у неё с Сергеем не ладится. Надо всё заранее решать.
Ольга замерла с вилкой в руке.
— Какая квартира? — спросила она, не узнавая свой голос.
— Ну та, что на Ленинском, бабушкина. Она же по завещанию пополам — Инне и Диме. А мама предлагала её сдать. И деньги… ну, как семейный фонд. Чтобы всем поровну.
— А я-то тут при чём? — Ольга смотрела прямо на Дмитрия. — Это ваше? Или это и моё тоже?
Валентина Петровна фыркнула:
— У вас же раздельный счёт. Ты ж сама так хотела. Вот и не лезь. Мы тут семейное решаем.
Ольга встала из-за стола. Медленно, будто боялась, что ноги подведут. Сердце било в горле.
— Если вы решаете — значит, решайте. Только и жить тогда будете по своим правилам. Без меня.
Она ушла в спальню. Закрыла дверь. Прислонилась к ней спиной.
— Это не гнев, — подумала она. — Это прозрение.
Грек подполз, уткнулся в колени. Она погладила его по голове.
Всё было ещё внешне спокойно. Никто не кричал. Ничего не разбито. Всё, вроде бы, как всегда.
Но Ольга знала: трещина уже пошла. И она точно знала, где будет эпицентр.
Началось всё с пакетов.
В воскресенье, часов в десять утра, Ольга только поставила чайник, только открыла глаза как следует, только присела к столу, чтобы в тишине, без никого, без комментариев о температуре воды и качестве молока, выпить кофе. И вот — звонок в дверь. Один. Потом второй. Настойчивый. Как будто не просто звонят, а проверяют, жива ли она вообще.
Открыла — на пороге стояла Инна с двумя огромными сумками и чемоданом на колёсиках. За спиной — Валентина Петровна. Та — с авоськой и складной табуреткой в пакете.
— А ты чего такая? — Валентина Петровна, будто бы удивлённая. — Не ждали? Мы же вчера с Димой договорились.
Ольга замерла.
— С каким Димой?
— С твоим. Мужем твоим, — Валентина Петровна уже зашла в прихожую, как будто так и надо. — Он сказал: приезжайте, поживёте немного, пока Инна с Серёжей разберутся.
Инна стояла как мокрая курица. Опухшие глаза, молча смотрит в пол.
— Пару неделек. Чай, не теснота, — буркнула она.
Ольга почувствовала, как в ней что-то заскрипело. Медленно, холодно, как заедающее колесо под тяжёлым грузом.
— А мне никто ничего не сказал, — спокойно произнесла она. — Ни про пару недель, ни про чемоданы.
Валентина Петровна уже развязывала шнурки на ботинках.
— Ну ты ж не против? Это же семья. Своих выручить — святое дело. Инночке сейчас так плохо. А я… я уже не девочка, по подъездам не побегаешь. К тому же, ты ж сама говорила: “у нас и так каждый вечер семейный съезд” — вот, пусть теперь и с ночёвкой.
Дмитрий объявился ближе к обеду. Вид у него был виноватый, но не слишком. Такой — как у человека, который заказал доставку без спроса, но искренне надеется, что «ну ты же не будешь злиться из-за этого, правда?».
— Я не знал, как сказать, — начал он с порога. — Инна попросила, маму с ней выгнали, Серёжа…
— Серёжа — не мой муж, — перебила Ольга. — И ты не посчитал нужным со мной это обсудить?
— Ну а что бы ты сказала?
— Вот именно, — с усмешкой кивнула она. — Ты даже не хотел слышать. Зачем спрашивать, если ответ неудобный?
Он потёр лоб, замялся.
— Да ты ж всегда за мир. Ну, подумаешь, поживут. Мы ж не чужие друг другу.
— Я им чужая, — сказала Ольга. — И тебе, похоже, тоже.
К вечеру кухня превратилась в филиал вокзального буфета. Табуретки заняты, на столе три миски с салатом, кастрюля с картошкой, гора тарелок, и в воздухе висел пар от вареников, жирный и приторный. Валентина Петровна командовала:
— Нет, не туда! Ты ложку не ту взяла, Инна! У Ольги она для собак! Да, для Грека! Вот эту бери. Господи, ничего вы без меня не можете.
Ольга стояла у раковины. Мыла руки. Долго. Как будто сдирала с себя что-то. Не грязь. Унижение.
— Оль, ну не злись, — Инна подошла сбоку, на цыпочках. — Нам правда некуда. Серёжа заблокировал меня везде. Я даже вещи свои еле забрала. Ты ж понимаешь…
— Я понимаю, — перебила Ольга. — Только никто не понимает меня.
На следующий день начались «наведения порядка».
Сначала Валентина Петровна сняла со стены их фотографию с Димой и повесила картину с маками. Сказала, что «лицо у тебя на той фотке, как будто на кладбище». Потом выкинула коврик в ванной — «воняет». Потом переселила Грека из спальни на балкон — «песок на подушках, фу».
Ольга молчала. Не потому что терпела. Потому что всё записывала — у себя внутри. Каждое «ой, да ты опять не так жаришь», каждое «а вот Инночка посуду моет, аж блестит» — всё складывалось в ящик. Без дна.
Через четыре дня случилось то, что стало точкой.
Ольга пришла домой с работы раньше. Устала. Спина болела, в голове гудело. Вошла — и замерла.
На её кровати лежала Валентина Петровна. В халате. С газетой. С пультом от телевизора.
— Я прилегла. Тут кондиционер, на балконе дует. А там душно, — пояснила свекровь, даже не подняв головы.
Ольга долго смотрела. Потом зашла в спальню, открыла шкаф, достала подушку.
— А ты чего? — спросила Валентина Петровна.
— Пойду спать в коридоре. Или на кухне. Я же не в счёт, правда? — голос у Ольги был холодный.
— Ну зачем ты так, — протянула та. — Всё же для семьи. Дом — общий. Ты же за равноправие?

Вечером она позвала Дмитрия на кухню.
— У нас не квартира. У нас цирк, — сказала она тихо. — С животными, клоунами и дрессировщиками. Ты меня сюда привёл. Но теперь я в этом доме — наёмный рабочий. Ни прав, ни мнения. Всё решается за моей спиной. Я здесь просто… вещь. И вещь можно передвинуть.
— Не драматизируй, — устало сказал он. — Это временно. Ну мама. Ну Инна. Они же не навсегда. Потерпи.
— А если они навсегда? — глаза у неё были сухие. — Если ты всегда будешь жить, чтобы никого не обидеть? Кроме меня?
Он встал. Начал ходить по кухне.
— Ну что ты хочешь? Чтобы я выгнал мать на улицу?
— Хочу, чтобы ты хоть раз сказал: «я с тобой». Чтобы выбрал. Но ты — не выбираешь. Ты всех устраиваешь. Только меня — нет.
В ту ночь Ольга спала на кухне. С Греком. На старом диване, где пружины впивались в бёдра. Но было спокойно. Потому что молчаливо. Без чужих запахов и комментариев.
Утром Инна плакала в ванной. Ольга слышала, как льётся вода, как шмыгает носом. И не пошла.
— У всех свои слёзы. А у меня — камни, — подумала она.
Днём пришёл участковый. Сказал, что соседи пожаловались на «громкие звуки». Оказалось, Валентина Петровна вчера вечером ругалась с кем-то по телефону, кричала, хлопала дверьми.
— Мы проверим состав семьи, — сказал он. — Если кто-то не прописан — это нарушение. Съём без договора, проживание без регистрации. Это — административка.
Ольга кивнула. Улыбнулась.
— Спасибо, что пришли. Я давно этого ждала.
Когда он ушёл, она позвала Дмитрия.
— Завтра все уезжают. Или я. Всё.
Он долго молчал. Потом сказал:
— Ты всё-таки с ума сошла.
— Нет, Дима. Я пришла в себя.
В комнате царила тишина. Только часы тикали. Инна сидела с чемоданом. Валентина Петровна хлопала ящиками, что-то громко искала.
Ольга смотрела на них. Уже не с гневом. Без страха. Только с усталостью.
— Я не обязана быть жертвой, — думала она. — Не обязана быть удобной. Я — не подушка. Я — человек.
Она достала из ящика старую фотографию. Где она и Дима, на берегу моря. Молодые. Смешные. Без Инн. Без Валентин. Без «борщей» и «ковров».
Она разорвала фото пополам. Сложила свою половину — и убрала в карман.
Ольга проснулась в шесть утра. На кухне тикали часы. Грек уже сидел у двери, ждал, пока она встанет. Погладила его по голове. Он прижался к ноге, как будто понимал — что-то должно случиться.
Она налила воду в чайник, заварила кофе. Потом надела джинсы, футболку, взяла папку с бумагами. Ту самую, которую хранила в нижнем ящике шкафа за стопкой полотенец. Там — свидетельство о браке, свидетельство о собственности, её трудовая, банковские бумаги, и главный документ — свидетельство на квартиру. Где чёрным по белому: квартира куплена ДО брака, оформлена на неё, личная собственность.
Её личная крепость.
Валентина Петровна проснулась первой из гостей. Вышла на кухню в халате, зевая, с выражением лица, как будто вышла к подчинённым.
— Опять кофе? — с укором посмотрела она. — А где каша? С утра надо что-то горячее. Инне тяжело, ей нервы беречь.
Ольга даже не повернулась.
— С утра надо уезжать, Валентина Петровна. Сегодня.
Свекровь замерла.
— Это что сейчас было?
— Было — предупреждение. Сегодня вы с Инной собираете свои вещи. И уходите. Сами. Или с участковым. Мне всё равно.
— Это ты… это ты сейчас серьёзно?! — Валентина Петровна завизжала, словно ей кипяток на ноги вылили. — После всего, что мы для тебя сделали?! После всей поддержки, советов?!
Ольга медленно повернулась.
— Вы путали поддержку с диктатом. Совет — это когда спрашивают. А вы не советовали. Вы управляли. Теперь — нет.
Инна вышла из комнаты с красными глазами. За ней — Дмитрий, помятый, с мешками под глазами и видом человека, который хочет обратно в утробу матери, лишь бы не решать ничего.
— Оля, может, подумаем ещё? — тихо начал он, по-старому, мягко, как будто просит не солить суп.
— Я думала. Годами. — Она поставила чашку на стол. — Но если ты так боишься своей матери — можешь идти с ней.
— Ты не имеешь права выгонять! — взвизгнула Валентина Петровна. — Это Димкина квартира! Мы вместе с мужем делали ремонт, мы привозили мебель, ты… ты тут вообще никто!
Ольга достала папку. Развернула документ. Показала. Не торжествующе, а спокойно, как приговор.
— Тут всё написано. Моя квартира. Куплена мной. До. Вас. До свадьбы. Ты можешь орать, биться, брызгать слюной, но по документам — ты здесь гость. Незваный.
Валентина Петровна побелела. Потом покраснела. Потом закричала:
— Димка, скажи ей! Защити мать! Или ты рёбра свои не помнишь, как мы тебя с бронхитом таскали?! Я тебя растила! Я!
Дмитрий посмотрел на Ольгу. Потом — на мать. И молчал.
— Молчишь? — Ольга чуть склонила голову. — Вот ты всегда так. Пока кто-то другой не решит — ты не двигаешься. Я двинула. Можешь сидеть, смотреть. Но этот дом — мой. Мои правила. Моя свобода.
Инна подошла ближе.
— Можно я останусь ещё на пару дней? Мне некуда…
Ольга посмотрела на неё. Долго. Потом — медленно покачала головой.
— А когда ты молчала, как мать глотала меня каждый день? Тогда у тебя было куда смотреть? Ты смотрела — и молчала. Теперь — ищи, где жить. Научись защищать себя. Без меня.
Собирались они долго. Валентина Петровна ругалась, бормотала, кидала носки в сумку, комментировала «мерзкое отношение», «неблагодарность» и «на кого ты нас променяла». Инна молчала, быстро собиралась. Ольга не мешала. Сидела у окна. Грек лежал рядом, хвостом стучал по полу.
Когда за ними закрылась дверь, наступила тишина. Не та, глухая и пустая, от которой становится страшно. А другая — плотная, вязкая. Своя.
Ольга прошлась по квартире. Медленно. Ванна — пустая. Спальня — снова её. На кровати — её плед. На комоде — фотография, уже без Димы. Оставила только свою половину. На кухне — порядок. Грек сидит у плиты, ждёт.
Она взяла бумагу, ручку. Написала записку:
«Я была удобной. Больше не буду. Не ищите меня. Я у себя.»
Собрала рюкзак, положила туда самое нужное — паспорт, документы, деньги, фото. Закрыла дверь. Не захлопнула — закрыла. Медленно. Спокойно.
Спустилась вниз, села на лавочку. Лето было на излёте. Пахло пылью, солнцем, сухими травами.
Прошла женщина с собачкой, кивнула. Ольга кивнула в ответ. Не улыбнулась. Но внутри — что-то стронулось.
Не боль. Не обида. Тишина. Такая, в которой можно начинать сначала.