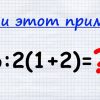Аня сидела на табуретке у окна, как на скамье подсудимых. Спина выпрямилась сама собой — будто кто-то сказал ей: «держи осанку, девочка, ты сейчас под прицелом».
На плите что-то зашипело. В комнате пахло пережаренным луком, раздражением и каким-то невысказанным «уходи».
С кухни, торжественно гремя чашками, появилась Валентина Павловна — с невозмутимым лицом и взглядом фельдмаршала на пенсии. Тонкая кофточка цвета варёной курицы, волосы в сеточке. И в руках — Анина чашка. Та самая, с Парижем. С трещиной.
— Это твоё, да? — Валентина Павловна презрительно ткнула пальцем в чашку. — Я думала, это для собак. Ну, пей-пей. Всё своё ношу с собой.
— Да, моё, — тихо ответила Аня. — И да, пью. Из неё. В пять утра. Когда вы ещё спите.
— Ну, мы ж не помешали, правильно? — не отрываясь от созерцания трещины, пробормотала свекровь. — Нам не к кому больше. А ты… Приспосабливайся. Молодая. Уж тебе проще, чем нам, старым.
Приспосабливайся.
Это слово на вкус как сырая манка. Противное и прилипает к гортани.
Три дня назад её жизнь была более-менее похожа на план. Обычный, глупый, бытовой план: поесть — в душ — сериал — обнимашки с мужем — сон. Всё по-человечески. По-ихнему.
Но теперь тут двое посторонних. С креслом, с двумя чемоданами и категоричным: «мы всё равно наследники по закону, а ты пока ещё так, временное явление.»
Андрей, её муж, с самого начала шёл по тонкому льду. Молчаливо, как мальчик, попавшийся на порванных джинсах. Аня ждала: ну вот, скажи, ну хоть что-нибудь. Но он только бормотал:
— Ну а что делать? Они же продали квартиру. Маме тяжело после операции. Папе нельзя подниматься на пятый этаж. А у нас лифт. Давай… потерпим?
Потерпим. Прекрасно. Он готов «потерпеть». А она?
— А ты у меня спросил? — спросила она вечером, в ту же ночь, когда чемоданы вкатились в их коридор. — Хоть один раз спросил?
Он тогда стоял в футболке с мятой спиной, чесал затылок.
— Я думал… ну… они же на время. Пока поищут что-нибудь…
— Знаешь, — сказала она с натянутой улыбкой, — ты когда-то думал, что женишься на мне не ради ипотечной справки. А теперь я начинаю сомневаться.
Он тогда смолчал. Первый раз. Потом — ещё раз. Потом — постоянно.
И вот теперь у них утро. Три дня ада.
Валентина Павловна хозяйничала, как будто прожила здесь двадцать лет, а Аня — квартирантка без договора. Даже холодильник был ей неугоден: «Аня, у тебя в морозилке какая-то рыба. Пахнет, как твои носки после спортзала». Очень мило.
— Мама, может, хватит уже? — вмешался наконец Андрей, протирая глаза. — Ну правда. Мы же договаривались без конфликтов…
— Ты мне это говоришь? — удивлённо всплеснула руками свекровь. — Это она тут шипит, как гусеница на сковородке! Я просто спросила — чашка чья. А получила взгляд, как будто я ей жизнь сломала.
— Вы ко мне домой приехали без спроса, — сжала губы Аня. — А теперь ещё и пытаетесь меня тут строить.
— Не драматизируй, — отмахнулась Валентина Павловна. — Дом — это не только стены. Это семья. А ты, милая, с нами всего шесть лет. А я — Андрею мать. Сорок лет. Почувствуй разницу.
— Почувствовала, — с горечью прошептала Аня. — Особенно, когда моё бельё сушится теперь в кладовке, потому что «в прихожей неприлично».
— А что, прилично — кружевные трусы на батарее? Стыдно должно быть! Владимир Семёнович чуть глаз не выколол…
Из комнаты послышался гнусавый голос:
— Я вообще-то и рад был бы выколоть, лишь бы не видеть всё это. Сплошная распущенность…
— Владимир Семёнович, не подливайте масла, — устало сказал Андрей, уже понимая, что завтрак не состоится. — У нас тут итальянская драма в трёх действиях.
Аня выпрямилась.
— Нет, Андрей. Не «у нас». У меня. У тебя — мама, папа, покой и «мы потерпим». А у меня — чужие люди на моей подушке и ощущение, что я живу в коммуналке.
— Вот теперь — обидно, — Валентина Павловна даже слегка покраснела. — Мы тебе не чужие. Ты — нам как дочь…
— Нет. Не как. Просто — не дочь. И не собираюсь быть. У меня мама — в Воронеже. Она вот так без спроса не приезжает. Даже когда простыла. Потому что уважает. Потому что спросит: «Можно ли?»
Повисло молчание. Давящее. Вязкое, как вчерашняя овсянка в раковине.
Потом Андрей медленно подошёл к Ане.
— Что ты хочешь?
Она посмотрела на него с обидой, которую носила в себе уже три дня.
— Я хочу, чтобы ты вспомнил, с кем ты строил эту квартиру. И кто в ней хозяйка.
Он посмотрел на Валентину Павловну. Та резко отвернулась к окну.
— Мы ведь не навсегда… — прошептал он.
Аня кивнула.
— А вот я — навсегда не хочу. Я устала быть «младшей по званию». Я не кухарка в пансионате. И не няня для ваших внутренних кризисов. Это мой дом. Или наш. Или ничей.
Она встала.
— Я в спальне. Ключи — у меня. Никто туда не заходит. Ни на день. Ни на два. Ни с тапочками, ни с упрёками.
Она ушла, и дверь за ней щёлкнула, как выстрел.
За дверью — тишина. Три комнаты. И больше ни одной общей.
Аня проснулась от звука.
Как будто кто-то скребся в её нервной системе. Тонко, монотонно, с маниакальной настойчивостью.
Шшш-шшш-шшш.
Она села в кровати и прислушалась. Скрежет. Где-то у кухни. Потом глухой удар. Потом что-то грохнуло.
— Ну всё, — прошептала она, вставая. — Или тараканы устроили переворот, или Валентина Павловна переезжает на мою территорию с вешалками.
В дверях — Андрей. Без майки, с красными глазами, будто всю ночь читал форумы «как стать посредником между женой и матерью и выжить».
— Мам, ну я тебя прошу… — бормотал он. — Ну что ты творишь?
— А что?! — орала свекровь где-то за кулисами. — Моя мультиварка! Куплена до брака сына! Я имею полное право её поставить там, где мне удобно! А не в коридоре, как у бомжей!
— Вы же гостите! — раздражённо вставил Аня, входя в зал. — Кто в гостях — тот не перепланирует кухню!
Валентина Павловна стояла с кастрюлей в руках и взглядом, как у следователя на месте преступления.
— Знаешь что, Анечка, — начала она, но уже без визга, а с ехидной интонацией. — Вот скажи, кто в доме хозяин?
— Пока что я, — твёрдо сказала Аня. — И мне плевать, кто где прописан.
— Ах так?! — Валентина Павловна побелела. — А если я скажу, что Андрей — наследник квартиры моей сестры? И мы, вообще-то, к вам не просто «гостить», а временно переехать, пока оформим документы?
— Оформите. И уезжайте. С документами. С мультиваркой. С обидами. Только быстрее, — Аня задыхалась.
Андрей вскинул руки.
— Мама, ну ты же обещала, что без сцен! Зачем ты это сейчас…
— Потому что терпение — не бесконечное, сынок! — резко перебила Валентина Павловна. — Я вижу, как она на нас смотрит. Как на… как на просроченный паштет из «Пятёрочки»!
— Ну простите, — не выдержала Аня, — но если кто-то вторгается в мой дом, разносит кухню, меняет место для вилок и жарит рыбу в семь утра с открытым окном в минус пять — я не обязана это с любовью воспринимать!
— Это уже не твой дом, Аня, — вдруг спокойно сказал Андрей.
Молчание. Мгновенное. Гробовое.
Аня уставилась на него.
— Что ты сказал?
Он отвёл глаза.
— Я… имею в виду, что… Если всё устраивает только тебя одну — это уже не общий дом. Дом — это не территория. Это… совместная жизнь. А её, извини, нет.
— Господи, ты сейчас серьёзно? — Аня рассмеялась. Горько. Нервно. — Потому что твоя мама решила, что мультиварке будет удобнее жить у окна?
— Не передёргивай! — огрызнулся он. — Ты ведёшь себя, как… как вечно обиженный подросток! Все виноваты! Все мешают тебе! Может, дело всё-таки не в нас?
— Конечно, — тихо сказала она. — Во мне. Что не проглотила. Что не подтерла за всеми. Что не сказала: «Здравствуйте, добро пожаловать, занимайте кровать, мне достаточно коврика!»
— Ты не умеешь уживаться, — вмешалась Валентина Павловна. — Женщина должна быть гибкой. Ты же не одна живёшь. Компромиссы — это и есть семья.
— Компромисс — это когда я делаю шаг, а не прыгаю с балкона, — прошипела Аня. — Вы сюда въехали как танк. С гусеницами. И теперь требуете цветы у дороги.
— Это временно, — упрямо произнёс Андрей. — Всё решится. Просто потерпи. Ещё чуть-чуть.
— А сколько — чуть-чуть? — Она сверлила его взглядом. — Неделя? Месяц? Год? Пока у нас родится ребёнок, и его тоже будут учить, как правильно ставить мультиварку?
Он ничего не ответил. Просто отвернулся. Вышел.
Аня осталась стоять на кухне. Валентина Павловна — рядом. Две женщины. Две войны.
И тут — щёлкнул замок входной двери.
— Анечка… — Валентина Павловна чуть смягчилась. — Мы… ну, мы правда не хотели так. Просто… всё сложно. Нам негде…
— Есть, — сказала Аня. — У вас есть старый дом под Липками. Тот самый, что вы сдавали. Его никто не отнимал. Просто вам было удобнее быть ближе к «цивилизации».
Свекровь молча села.
— А ты… откуда знаешь?
— Потому что звонила сама туда. Спросила соседку. Светлана Петровна. Помните такую? Она сказала: «дом пустует, стоит с осени». Вы просто решили не ехать. Вам удобней — у нас.
Валентина Павловна молчала. Потом встала и вышла.
Аня осталась одна. Кухня — поле боя. Вилки не на своих местах. Мультиварка на табурете, как на троне. Воздух пахнет жареной обидой.
Через час в квартиру вернулся Андрей. Без пакетов. Без слов.
— Что ты хочешь сделать? — тихо спросил он.
Аня посмотрела на него. В этот момент она поняла: что-то уже не склеится. Даже если в комнате появится ремонт, новые обои и фильтр для воды. Треснула не чашка — треснуло «мы».
— Я хочу, чтобы ты уехал. Вместе с родителями.
— А ты?
— А я останусь. Пока. Это моя территория. Моя. Я за неё платила. Работала. Чистила. Мыла. Любила тебя — в этой постели. В этой кухне. В этой ванной. Здесь — всё моё. А вас — я больше не зову.
Он помолчал.
— Ты уверена?
— Я — устала.
Он ушёл. Без крика. Без хлопка двери. Просто взял куртку и вышел.
И в квартире повисла та самая тишина.
С кухней. С залом. С ванной.
С Аней — в трёх комнатах, где больше никто не скребёт изнутри.
Прошла неделя.
Аня жила в полной тишине, и это, как оказалось, было страшнее, чем утренние склоки и скрежет кастрюль. Никто не спрашивал, где сахар. Никто не бросал носки рядом с кроватью. Никто не дышал в спину по ночам.
Мир будто замер, замотанный в толстое одеяло одиночества.
Зато кухня — её. Бельё — на батарее. Мультиварка — в коробке. Тишина — в награду.
И всё бы ничего, если бы в этой тишине не было одного назойливого шёпота:
«А может, ты перегнула?»
Нет. Она сто раз прокручивала тот день. Все реплики, тон, выражения лиц. Перегиб был не у неё. Она просто устала быть «терпеливой». Всё правильно.
Она даже не плакала. Только однажды — в ванной, когда услышала из памяти, как Андрей смеялся. Громко, искренне. Как в первые месяцы. Когда они пили чай сидя на полу, потому что мебели не было, зато были крылья. Потом мебель появилась. А крылья — ушли. Вместе с ним.

В середине недели зазвонил домофон.
— Да?
— Это Валентина Павловна.
— Кого не хватает? Унитаза?
— Анечка… я просто хочу взять свою кофемолку. Если можно. Мы тогда забыли.
— Через окно сброшу. Безопаснее.
— Можно я поднимусь?
— На минуту.
Дверь открылась. Аня стояла, скрестив руки. Валентина Павловна вошла медленно, с видом женщины, которая пришла не за кофемолкой, а за отпущением грехов.
— Мы… тогда были резки, — начала она. — Я была. Я знаю. И Андрей…
— Он уехал с вами?
— Нет. Он живёт у друга. Пока.
— А чего не ко мне вернулся? Или теперь «эта квартира — только твоя»?
— Он думает.
— О чём?
— О том, что вы оба упрямые, как две стенки. И что между вами всегда был он. Как обивка на молотке.
Аня вздохнула.
— Я не упрямая. Я просто устала быть виноватой за чужие решения.
Валентина Павловна села.
— Знаешь, а я ведь когда-то думала, что ты — подарок. Та, что его вытащит из лени, из бесцельности. Ты была яркая. Целеустремлённая. Даже раздражающая в своей уверенности.
— Спасибо. Прямо эпитафия.
— А потом я увидела — ты тоже человек. Усталая. С характером. Со своими ранами. Не подарок. А живая.
Аня села рядом. Не глядя.
— А вы?
— А я — мать. И да, я лезла не туда. Но только потому, что думала — могу помочь. Просто у меня помощь всегда похожа на танк. Привыкла бороться.
— Привыкли побеждать.
— А теперь проиграла.
Молчание.
— Андрей приедет. Сегодня. Он сам. Хочет поговорить.
— Зачем вы мне всё это говорите?
— Чтобы ты хотя бы не швыряла ему в лицо тапком. И не встречала словами «лавочка закрыта». Хоть раз — просто послушай.
Аня встала.
— Я — слушаю. Только пусть говорит не как «сын своей мамы», а как мужчина. Который понял. Или — не понял.
Андрей пришёл в семь. Без цветов. Без кофемолки. С лицом, как будто пришёл не мириться, а на исповедь.
— Можно?
— Если коротко.
Он кивнул.
— Ты права. Я не умею защищать. Я всегда… пытаюсь угодить. Чтобы всем было хорошо. А в итоге — всем плохо.
— Почему тогда не сказал «нет» им?
— Потому что я… боюсь потерять и тебя, и их. У нас не было границ. Но знаешь, Ань… я понял одну вещь.
— Какая новость!
— Я понял, что ты — не случайный пассажир в моей жизни. И не временная. Ты — человек, ради которого я должен был сразу поставить чёткие условия. А я… испугался. И потерял.
Аня молчала.
— И теперь ты хочешь что?
— Второй шанс. Не в этой квартире. Не здесь. Не сейчас. А в новом месте. С нуля.
— Снова ипотека?
— Пусть. Главное — с тобой. Без чемоданов мамы. Без папиных комментариев о твоих трусах. Без…
— Без тебя такого, каким ты был?
Он улыбнулся.
— Именно.
Аня долго молчала.
Потом кивнула.
— Слушай. Только один вопрос.
— Да?
— Ты кофемолку принёс?
Он рассмеялся.
— Принесу. С новой квартирой. И кухней. Где всё будет — по твоим правилам.
Аня встала.
— Нет. По нашим. Только если ты опять начнёшь жарить рыбу в семь утра — вылетишь вместе с мультиваркой.
Он подошёл. Обнял. Она — не отстранилась.
Тишина в трёх комнатах — сменилась дыханием. И в этом доме снова стало тесно. Но уже не от обид. А от надежды.