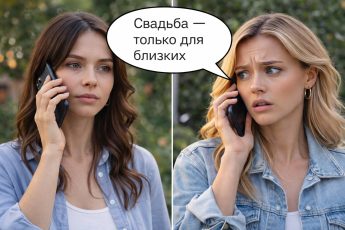В жизни почему-то самые важные развилки случаются именно тогда, когда меньше всего их ждёшь… Вот и у меня в тот вечер на душе было удивительно хорошо. Домой хотелось! Перед зеркалом — будто лишние двадцать лет куда-то ушли, так легко было на сердце.
Я выходила из подъезда Ольги Петровны, своей старой подруги, и, держа в руках маленькую коробочку пирожных для Валеры — мужа моего, улыбалась, глядя на фонари. Как дура, простите. Ну, захотелось мне любимого человека порадовать в такой вот обычный вторник! Да и предупреждать не стала — сюрприз ведь всегда лучше…
Так вот шла я, перебирая в голове — то ли новую песню для завтрака выбрать, то ли на балконе поставить вазончик с цветами… Смех Ольги Петровны ещё звенел в ушах. Время было только начало восьмого, на улице тихо и свежо: запах листвы и начавшей подмерзать земли напоминал странную, но приятную смесь из моего детства.
Когда я подошла к подъезду, сердце заторопилось. От такой мелочи — глупо, конечно, но очень уж хотелось провести вместе эти неожиданные три часа покоя и радости.
Ключ повернулся в замке. Я тихонько сняла туфли — ну чтоб не спугнуть, мало ли, вдруг Валера за книжкой уснул, хорошо бы не разбудить…
И вот на пороге прихожей — ту туфли какие-то женские, явно не мои… Красные, лаковые. Маленькие совсем. Остановилась. Как ком к горлу. Странно, правда? Всё ведь шло так хорошо.
Я медленно шагнула вглубь квартиры. Сердце забилось ещё чаще. За дверью спальни доносились… да-да, смех, веселый и такой… чужой.
Я толкнула дверь.
Он там был. Не один.
На секунду — кажется, что вся жизнь стала хрупкой, как льдинка в ладони. Только звенит — и… трещит где-то глубоко внутри.
Вообще-то, если бы кто-то месяц назад спросил меня, могу ли я такое представить, я бы только отмахнулась: нет, не про нас. Не про нашу семью. Про соседей — слышала, у кого-то с четвёртого, недавно такое было; вон Валя три дня подруге звонила, рыдала взахлёб… «У нас ведь всё иначе», — думала я, засыпая рядом с Валерой. Дурацкие самообманы, как оказалось.
Я стояла в проёме, будто приросла ногами к старому ковру. Сердце — не билось, колотилось. Глаза — не верили.
— Валера… — выдавила я, и голос дал трещину, будто тарелка, которую неаккуратно поставили в раковину.
Он вздрогнул, как будто озяб, но посмотрел на меня. Глаза — огромные, виноватые. А рядом девушка… Совсем молодая, лет двадцати пяти, светлые волосы, и лицо такое — как у студентки, перепуганной, но горделивой.
Наступила пауза, долгая, густая, как кисель. Я вдруг вспомнила всё сразу: наши тридцать лет вместе, ту самую старую сковороду, с которой мы начинали в однокомнатной, его первый галстук, наш первый телевизор «Рекорд». Всё пронеслось — разом.
А потом я почувствовала… странное спокойствие. Холодок внутри, да. Но — удивительную, странную ясность. Вот она — правда, вот он — твой выбор, вот оно — твое лицо без маски.
— У вас что-то… серьёзное? — спросила я неожиданно для себя и для них.
Валера закашлялся, перевёл взгляд с меня на неё.
— Катя… Это не то, что ты думаешь…
Эти слова, оказывается, говорят на самом деле! Не только в книжках…
Девушка быстро натянула своё платье и стала тихонько собирать туфли.
— Простите… — пискнула она, не глядя мне в глаза.
Я смотрела на них обоих, будто не я, а кто-то другой. В голове, как на бегущей строке, крутилось: «Что теперь? Что теперь?».
Пирожные…
Я всё ещё держала эту нелепую коробочку. Вдруг, совершенно абсурдно, решила: а не поставить ли их на стол? Ведь куплены были — с любовью.
Поставила. Открыла коробку. Посмотрела на Валеру — у него подёрнулись губы, и щеки, совсем недавно розовые, теперь стали пепельными.
— Может, объяснишь? — мягко, почти по-матерински спросила я.
Девушка стояла с краешку, очевидно, не находя места, — ни тут, ни в жизни.
— Она уйдёт… — тихо сказал Валера.
Я махнула рукой:
— Пусть сама решит. Мне скрывать нечего.
Девушка, кажется, услышала разрешение, потому что молча, почти неслышно, выскользнула из квартиры, чуть не забыв сумочку.
И вот остались мы — двое на кухне, среди запаха чая, старых занавесок и этого дурацкого коробочного чизкейка.
Валера смотрел на свои руки. Я — на него. Впервые за много лет — как будто мы два незнакомых человека, случайно оказавшихся в одной комнате.
— Почему? — спросила я просто, даже не громко.
— Не знаю, — прошептал он, — правда, не знаю… Наверное, испугался старости. Испугался, что всё слишком правильно, слишком привычно… Прости.
А у самой слёзы наворачивались, но что-то внутри удерживало их, будто жизнь, накопившаяся в нас за эти длинные годы.
— Валера… — тихо выдохнула я. — Ты знаешь, я ведь тоже боялась этой старости. Только не думала, что каждый по-своему. Ты — обманывая, я — закрывая глаза на нутро, где что-то давно уже тревожилось.
Повисла пауза. Длинная.
Кто бы мог подумать, что такие разговоры — реальны?
Мы сидели друг напротив друга, будто два актёра, забывшие текст в самой драматичной сцене спектакля. За окном где-то ругались воробьи, в чайнике медленно остывал чай…
Пахло мятой и чем-то ледяным — может, предчувствием перемен.
Я машинально крутила ложечку, ловя скользящие отражения: моя рука кажется чужой, лицо — усталое, но спокойное… Как будто вместе с болью примешалась какая-то необыкновенная прозрачность.
— Знаешь, Катя, я сам этой дурости не понимаю… — вдруг начал Валера тихим, виноватым голосом. — Тебя уважаю, люблю, по-своему… Боялся признаться себе, что стал стареть, что уже не тот… А тут — она… Оля. Молодая, смешная, глаза у неё… Дурак я, наверное. Очень, — добавил он, будто боялся, что я не расслышу.
Я слушала и понимала: больно не столько из-за её — этой Оли, не из-за самой измены. А за то, как оступился человек, с которым шагала всю жизнь плечом к плечу, строила общий дом, обживала каждую мелочь, каждую чашку, каждую занавеску.
Всё ведь было не зря?
— А мне… — начала я, но ком в горле не позволял сразу говорить, — мне вот явно не хватало смелости заглянуть тебе в глаза, когда что-то менялось… когда мы начинали жить, как два квартиранта. Ты всегда что-то чинил в доме, я — тянула быт, а про душу… забыла.
Я усмехнулась сквозь слёзы. — «Вон, у Ваньки на даче новая баня…» — Эти разговоры у нас всегда были вместо правды.
Валера вдруг встал, как школьник, который боится ремня, но всё равно встаёт, запихивая в карман подзатылочные слёзы:
— Катя… ты сильная. Я это знаю. Сильнее меня. Я не знал, как попросить прощения. Честно…
И тут меня словно прорвало. Я встала, шагнула к окну и смотрела в стекло — на своё отражение, на улицу, где радостно проносился чей-то мопс, на далёкие облака.
— Мне не сорок пять, Валера, и не двадцать… Но, знаешь, сейчас я чувствую себя живой. Потому что… честно. Больно — да. Но эта боль — она живая. Она и про нашу любовь, про ошибки, про прожитое…
Валера сел обратно, вздохнул. Как будто древний стол скрипнул вместе с ним.
— Я понимаю, если ты… если надо, уйду, — шепчет. — Только скажи, что хочешь.
А я… сама не знаю.
Тридцать лет общего быта, усталых вечеров, командировочных колбас, слёзы над картошкой… А сейчас — свобода решать. С горечью. С тоской. Но — решать.

— Пока не знаю, Валера, — тихо сказала я. — Мне нужно подумать, как жить дальше. Только по-настоящему… Мне надо привыкнуть к себе сегодняшней.
Он кивнул.
И несколько долгих минут в комнате не было ничего, кроме еле слышного тиканья часов и ловкого стука дождя за окном.
Вот так всё и рушится, а вместе с тем — и начинается заново…
Вечером я долго сидела на кухне. За окном город засыпал, огоньки квартир мигали то тускло, то ярко, кто-то включил старую песню на патефоне — из соседей, наверное. Всё было таким привычным, будто ничего не случилось. Моя чашка с недопитым чаем, старая белая салфетка, на которой навязаны непонятные цветочки — подарок от мамы, тогда ей было почти столько, сколько мне сейчас…
Я вспоминала нас — двадцать лет назад, десять… Как он возвращался с рынка с охапкой хризантем, нелепо улыбаясь сквозь усы. Как я ругалась, что забыл купить сметану, а потом всё прощала, потому что иначе и жить было бы нельзя.
Когда-то дом казался полным смысла, каждый угол хранил историю: здесь сын делал уроки, здесь я с подругой пекла яблочный пирог, а Валера — в маленькой мастерской за шкафом вечерами возился с радиоприёмником…
И вот теперь — пустота. Нет, не после потери — а как будто между двумя главами в одной книге. Перелистываешь страницу и не знаешь: в новом абзаце про тебя или уже про кого-то другого?
Я, как ни странно, почти не плакала. Не было злости. Только усталость и чуть-чуть — тихой, бережной хрупкости к самой себе.
Позвонила Лизка.
— Ну что, Кать, жива? — голос строгий, но знакомая игривость в интонациях.
— Да, Лиз, — шепчу. — Всё на месте. Даже я сама, кажется, на месте.
— А он там?
— В зале сидит. Не пьёт. Не плачет.
— Мудро.
Мы переглянулись бы глазами — я уверена — если бы были рядом. С ней мы говорим даже без слов.
— Знаешь, — продолжила я, — мне кажется, будто я заново учусь: чувствовать. Вот смешно, но вдруг голос у него стал не таким привычным, и взгляд у меня какой-то новый сам к себе…
Лиза помолчала и тихо добавила:
— Главное, Кать, себя не предавай. Никого не надо — ни его, ни эту… Олю. Себя только. Ты у себя одна.
— Спасибо, Лиз…
— Позвоню завтра. Обещай спать, ладно?
«Ладно», — отвечаю и, наконец, чуть улыбаюсь.
Когда она отключается, я порываюсь встать и пойти к Валере, встретиться глазами — как две кошки, осторожные. Но остаюсь. Потому что торопиться некуда. Всё равно ответа пока нет. И не будет — за один вечер.
Вот так прошла моя, может быть, самая странная ночь. На кухне, среди старых кружек, среди запаха мыла и чуть подсохших гвоздик в вазе.
Жить ведь нужно уметь не только с любимым человеком, но и — с самой собой.
Утром всё было совсем иначе. Город вдруг оказался ровным, почти стерильным: весна выметала дворы метлой ветра, в окнах сверкало солнце, голуби, как ни в чём не бывало, гуляли по тротуарам. Обычно в такие дни душа поёт. А сегодня… внутри тишина.
Я на автопилоте заварила кофе, кинула две ложки сахара — хотя сама не люблю сладкое, но сегодня позволила себе чуть-чуть. Дурная привычка: иногда отпустишь поводья, а потом ловишь себя на том, что живёшь как чужая.
Валера вошёл на кухню почти бесшумно, но я чувствовала его ещё до его появления, как магнита. Волосы взъерошены, глаза — красные. Молчал. Я тоже. Словно мы оба не нашли словарика, где объяснены наши вчерашние чувства.
— Катя, — у него голос стал хрипловатым, будто курил всю ночь, — давай поговорим?
Я поставила перед ним чашку. Молча. Села рядом. Мыслей — прорва, слов — ни одного.
— Прости меня, — выдохнул Валера так, что я сразу вспомнила упрямого мальчика из фильма, который стыдится своих слез. — Я виноват… даже не хочу оправдываться.
Я внимательно смотрела на его руки — большие, неуклюжие, но тонкие пальцы. Эти пальцы держали когда-то моего сына, чинили нам краны, вбивали гвозди в наш первый диван. Я всегда доверяла этим рукам.
— Что теперь? — спросила я по-детски. И сама удивилась, как мой голос дрожал.
Валера молчал. Потом вдруг аккуратно коснулся моей ладони.
— Я ошибся. Я запутался, Кать… Мне казалось — жизнь проходит мимо. А оказалось — мимо прошёл только ветер. Я тебя… не потерять бы.
Я промолчала, но вдруг ощутила, как сильно мне хочется плакать. Не потому, что он просит прощения, а потому что всё это — не игра, не кино, не чужая история. Это мы. Наш дом, наше прошлое, наши ошибки.
В этот момент я поняла — прощать или не прощать, решать не сейчас. Надо просто прожить этот день. Вместе. Или порознь — но честно.
Мы сидели так, никуда не спешили, даже кофе остывал в чашках, а птицы за окном снова шумели как взаправду.
И я вдруг почувствовала — я больше не пустая. Просто немного другая.