Солнечный луч, густой и пыльный, как старый коньяк, тянулся через стол, целясь прямо в хрустальную рюмку свекра. В рюмке плескалась та же жидкость, что и в луче, только холоднее. Василий Степанович поднялся, откашлялся. Шум двадцати человек, спрессованных в гостиной «хрущевки», стих мгновенно, будто кто-то выключил звук.
— Дорогие мои, — начал он, и голос его, привычный командовать на заводском цеху, здесь, среди родни, звучал неожиданно мягко. — Спасибо, что пришли. Шестьдесят лет — не шутка. Много воды утекло. Много людей прошло. И вот сижу я, смотрю на вас, и понимаю, что самое ценное в жизни — это семья. Крепость. Опора.
Я сидела рядом с мужем, его сыном, Лехой. Леха аккуратно поправил салфетку. Он всегда что-то поправлял, когда волновался.
— А в семье, — продолжал Василий Степанович, блеснув мудрым взглядом поверх очков, — как в стаде. Все разные. Есть лидеры, есть те, кто сбоку. А есть… терпеливые овцы.
В зале пронесся сдержанный смешок. Все заулыбались. Тетя Люда, его сестра, фыркнула в платочек. Друзья-сослуживцы согласно закивали: мол, Василий, ты как всегда, в точку.
— Да-да, не смейтесь, — поднял руку юбиляр, довольный эффектом. — Терпеливая овца — это не слабость. Это мудрость. Она не лезет вперед, не бодается. Она тихо идет за всеми, ест ту траву, что дают, терпит непогоду и никогда не устраивает бунт в овчарне. Благодаря таким овцам в стаде — мир и порядок. Согласны?
— Согласны! — хором откликнулись гости, и несколько рюмок уже поднялись в предвкушении тоста.
Я смотрела на свою тарелку, где остывало мясо по-французски, которое я готовила с пяти утра. «Терпеливая овца». Во рту стало сухо. Леха под столом коснулся моей руки, будто говоря «не обращай внимания, он же не со зла». Я всегда обращала внимание. И я всегда терпела. Переезд в эту квартиру после свадьбы, потому что «так удобнее». Мою тихую работу библиотекаря, которую он в шутку называл «сидением на шее государства». Мои попытки записаться на курсы итальянского, которые разбивались о его уверенность, что «жене инженера это ни к чему». Я терпела его шутки про «девичьи фантазии», его советы по воспитанию нашего сына Мити, его уверенность, что борщ должен быть именно таким, как варят они с тетей Людой. Я молчала. Я улыбалась. Я ела ту траву, что давали. И вот теперь я получила свое официальное, юбилейное наименование. При всем честном народе.
Василий Степанович торжествующе оглядел зал, готовый завершить мысль и выпить за мир в семейной овчарне. И в этот момент раздался голос. Четкий, звонкий, чуть хрипловатый от возраста и «Беломора».
— Ну, если овца, Степаныч, то по фамилии Волкова.
Голос принадлежал Тамаре Игнатьевне, дальней родственнице со стороны покойной свекрови. Старушка лет восьмидесяти, в неизменном синем костюме и с буравящим взглядом. Она сидела в углу, за столиком с тортами, и до этого момента лишь деловито уничтожала салат оливье.
Смешки оборвались на полтона. Кто-то неловко кашлянул. Василий Степанович замер с поднятой рюмкой, его бровь поползла вверх.
— Что, Тома? — спросил он, не понимая.
— Волкова, — повторила Тамара Игнатьевна, не отрываясь от своей тарелки. — Фамилия-то у нашей овечки какая? Волкова. Волчиха, значит. А ты про овец.
Воздух в комнате стал густым и липким, как кисель. Все застыли. Улыбки застыли на лицах, превратившись в гримасы. Тетя Люда перестала жевать. Сослуживец свекра, Николай Петрович, потянулся за сигаретой, но замер, вспомнив, что курить нельзя. Леха резко убрал руку из-под стола и налил себе воды, пролив немного на скатерть.
Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Не от страха. От странного, ледяного спокойствия. Все смотрели на меня. На мою обычную блузку, на скромную сережку-гвоздик, на руки, сложенные на коленях. И в их взглядах читалось не сочувствие, а скорее паническое ожидание: «Что же она сейчас сделает? Зарыдает? Убежит? Начнет скандалить?».
Я не сделала ничего. Я просто подняла глаза и встретилась взглядом со свекром. В его глазах мелькнуло сначала недоумение, потом досада на старую дуру, испортившую красивую аналогию, и… растерянность. Чистая, детская растерянность. Он смотрел на меня, будто впервые видел. Не как на «Лену, Лехину жену», «невестку», «мать Мити». А на меня. Елену Волкову.
— Тамара, ты что-то путаешь, — попытался вступить Леха, его голос прозвучал неестественно громко. — Папа говорил вообще, образно.
— А я конкретно, — отрезала Тамара Игнатьевна, откладывая вилку. — Фамилии, милок, штука серьезная. Неспроста даются. Это тебе не кличка в стаде. Волк он и в овечьем стаде волк. Терпение терпением, а клыки-то, поди, на месте.
В комнате воцарилась тишина, которую можно было резать ножом, тем самым, что лежал рядом с ветчиной. Все напряглись. «Напряглись» — слишком мягкое слово. Они окаменели. Каждый сидел в своей позе, боясь пошевелиться, чтобы не произошло щелчка, который взорвет эту неловкость. Взоры метались от меня к свекру, от свекра к Лехе, от Лехи к бесстрастной Тамаре Игнатьевне, доедавшей оливье.
Василий Степанович медленно, очень медленно опустил свою недопитую рюмку на стол. Звон хрусталя о стекло прозвучал как выстрел.
— Леночка… — начал он, и в его голосе впервые за все десять лет, что я его знала, послышались извиняющиеся нотки. — Я, конечно… это была просто такая…
Он запнулся. Он не находил слов. Он, мастер цеха, оратор на собраниях, человек, всегда знавший, что сказать, — он онемел перед тихой невесткой.
И тут со мной случилось странное. Внутри, в самой глубине, где годами копилось молчаливое согласие, где жила та самая «терпеливая овца», что-то щелкнуло. Не громко. Тише, чем хрусталь о стекло. Но необратимо. Это было похоже на то, как снимают наручники. Не те, что брякают, а те, что были туго затянуты изнутри, из собственного страха и желания угодить.
Я посмотрела на него. Потом обвела взглядом стол. На тетю Люду, которая всегда учила, «как правильно». На друзей свекра, которые называли меня «молчуньей». На Леху, который уже смотрел на меня с немым упреком: «Ну вот, испортила все, теперь расхлебывай».
Я взяла свою рюмку. В ней был сок. Я не пила алкоголь. Еще одна мелочь, которую все принимали как должное.
Я поднялась. Стул тихо скрипнул. Звук казался оглушительным.
— Спасибо за тост, Василий Степанович, — сказала я. Голос не дрогнул. Он звучал ровно, тихо, но так, что было слышно каждое слово в мертвой тишине. — И спасибо, Тамара Игнатьевна, за… уточнение. За фамилию.
Я сделала маленький глоток сока, поставила рюмку.
— Пожалуйста, не останавливайтесь. Праздник ведь. А мне нужно проветриться. На минуточку.
И я вышла. Не побежала в спальню, закрываясь на ключ. Не выбежала в слезах на лестничную клетку. Я просто вышла из-за стола, спокойным, ровным шагом прошла через гостиную, полную окаменевших свидетелей, взяла в прихожей свою легкую куртку и вышла на балкон.
Дверь за мной закрылась, и я вдохнула полной грудью. Вечерний воздух был прохладен и сладок. Где-то внизу дети играли в мяч, смеялись. Мир жил своей жизнью. А за спиной, за тонкой стеклянной дверью, оставался другой мир — мир, в котором только что рухнула незыблемая иерархия.
Я стояла, опершись о перила, и не думала ни о чем. Во мне было пусто и странно светло. Я слышала приглушенный гул голосов из квартиры — там снова заговорили, сначала робко, потом громче, пытаясь замять, залить едой и выпивкой провал, который образовался посреди застолья. Но праздник был уже безнадежно испорчен. Его скрепа, молчаливое согласие всех, включая главную героиню аллегории, дала трещину.
Через некоторое время дверь на балкон приоткрылась. Вышел Леха.
— Лен, что ты… — начал он сходу, но голос его был не сердитым, а вымотанным. — Отец расстроен. Все сидят, как на иголках. Заходи, давай как-нибудь…
— Как-нибудь что? — спросила я, не оборачиваясь.
— Ну… Забудем. Он же не хотел тебя обидеть. Он так, образно.
— Я не обиделась, — честно сказала я. И это была правда. Обида — чувство для того, кто ждет справедливости. А я просто перестала играть по их правилам.
— Но сейчас же неловко! Все смотрят! Тамара-дура болтанула, а ты поддержала!
Я наконец повернулась к нему.
— Я поддержала? Я сказала «спасибо за уточнение». Это факт. Моя фамилия Волкова. Это не я ее придумала.
Он смотрел на меня, и я видела в его глазах знакомое раздражение, смешанное с недоумением. Он привык, что я уступаю. Что я первая иду на примирение. Что я глотаю обиды, чтобы «не портить атмосферу». Атмосфера была безвозвратно испорчена одной фразой старухи, и теперь ему, наследнику патриарха, приходилось разбираться с последствиями.
— Ладно, — вздохнул он, помолчав. — Ладно. Посиди тут, если хочешь. Я скажу, что у тебя голова болит.
Он ушел. Я осталась. Голова у меня не болела. Напротив, она была необычайно ясна.
Вечер догорал. Гости стали расходиться раньше, чем планировалось. Прощались тихо, озадаченно. Некоторые, проходя мимо балкона, бросали на меня быстрые, искоса взгляды — взгляды на диковинку, на внезапно укусившую овцу.
Я вошла в квартиру, когда оставались только самые близкие. Помыла посуду. Мои руки делали привычные движения среди горы грязных тарелок. Василий Степанович прошел на кухню за водой. Он остановился возле меня, помолчал.
— Лена… — снова начал он.
— Не беспокойтесь, Василий Степанович, — перебила я его, и сама удивилась своей мягкой, но не допускающей возражений интонации. — Все в порядке. Юбилей удался. Поздравляю еще раз.
Он постоял еще мгновение, кивнул и ушел. В его спине читалась усталость, не праздничная, а какая-то иная. Возможно, впервые он почувствовал, что мир, который он так выстроил, не вечен. Что даже самые терпеливые овцы имеют фамилии. И клыки.
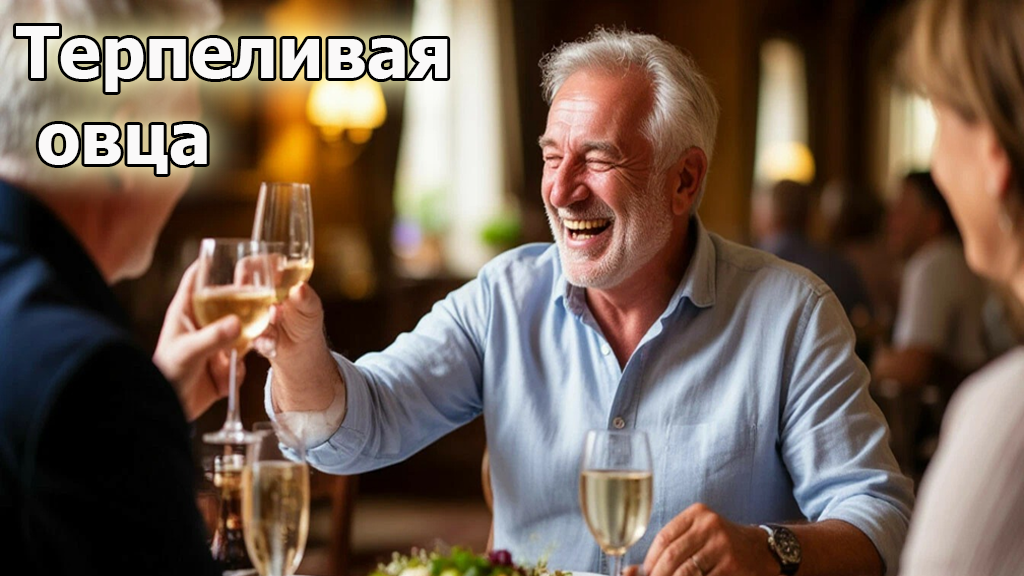
Когда мы с Лехой шли домой (мы жили в соседнем доме), он молчал. У нашего подъезда он вдруг сказал:
— Зачем ты это сделала?
— Что именно? — спросила я.
— Вся эта история! Можно же было промолчать! Просто промолчать, как всегда!
Я остановилась и посмотрела на него. На человека, которого любила. Которого выбрала когда-то сама, вопреки советам. И который так хотел, чтобы я вписалась в его мир, что готов был сам меня в этом мире растворить.
— Лех, — сказала я очень спокойно. — Я молчала десять лет. Сегодня я просто сказала «спасибо». И вышла на балкон. Это не бунт. Это… уточнение.
Он ничего не ответил. Мы поднялись на лифте. Дома спал Митя. Мирная, знакомая жизнь. Но что-то изменилось. Не в нем. Во мне.
С того вечера прошло несколько месяцев. Все вроде бы осталось по-старому. Мы ходим в гости к свекру по воскресеньям. Он по-прежнему дает советы. Тетя Люда учит жизни. Но теперь, когда Василий Степанович начинает очередную притчу или назидание, он иногда, совсем чуть-чуть, запинается, бросая взгляд на меня. И в его глазах уже нет прежней безапелляционности. Есть вопрос. Осторожный, невысказанный.
А я записалась на курсы итальянского. По вторникам и четвергам. Когда я сказала об этом за воскресным столом, свекор хотел было что-то сказать, но лишь откашлялся и пробормотал: «Ну, если интересно…»
Иногда я ловлю на себе взгляд Тамары Игнатьевны, когда мы встречаемся на тех же семейных сборищах. Она подмигивает мне своим острым, птичьим глазом. Молча. И в этом подмигивании — странное, боевое товарищество.
Я не стала волчихой. Не стала скандалисткой или бунтаркой. Я все так же готовлю борщ (но иногда добавляю туда чернослив, потому что мне так нравится). Я все так же работаю в библиотеке. Я все так же люблю своего мужа и сына.
Но я перестала быть терпеливой овцей. Потому что овцы не имеют фамилий. А у меня она есть. Волкова. И с этой фамилией, как оказалось, нужно жить. Не бодаться, не рычать. Просто знать, что она у тебя есть. И иногда, совсем изредка, в нужный момент, очень мягко ее называть. Чтобы все вокруг на мгновение напряглись. И чтобы ты сама, стоя на балконе в прохладном вечернем воздухе, чувствовала не горечь, а странную, тихую свободу. Свободу быть собой. Не только в своей голове, но и в глазах всего мира.


















