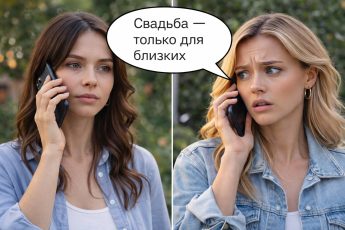— Да хоть орите и угрожайте, но сегодня я выставлю вас обоих. И тебя, Серёжа, и твою мамочку. Из моего дома.
Сергей даже не сразу понял, что это не шутка. Он стоял в дверном проёме кухни, в мятой футболке, по которой давно можно было определить его жизненную философию: лишь бы не трогали. На секунду он открыл рот, как будто хотел сказать своё привычное «ты опять…», но я не дала ему этой рассрочки.
— Ты сейчас серьёзно? — наконец выдавил он, голосом человека, у которого внезапно попросили объяснить, как работает электричество.
— А ты как думаешь? — я положила ложку на стол так аккуратно, будто это был не металл, а доказательство в суде. — Три дня. Три дня твоя мама тут живёт, как будто купила эту квартиру вместе с чайником. Три дня ты делаешь вид, что ничего не происходит. И ты ещё спрашиваешь — серьёзно?
Сергей шагнул на кухню, посмотрел на мой стол, на мой старый линолеум с пузырями, на календарь с морем, который висел на стене, как издевательство. Календарь был подарком Нины Петровны. Конечно, подарком. У неё всё «подарки»: такие, чтобы потом всю жизнь помнить, кто здесь «хороший человек».
— Оль, давай без театра, — он потёр лицо ладонями, будто пытался стереть проблему. — Мама приехала на неделю. На неделю. Она же не навсегда.
— Ага. А чемодан почему в спальне? — я кивнула в сторону коридора. — Он сам туда дошёл? На ножках?
— Ну… — Сергей поморщился, как от кислого. — Там места больше.
— В спальне места больше, — повторила я, и слова прозвучали так, будто я их пробовала на вкус. — Отлично. У меня тоже есть ощущение, что кому-то тут стало «места больше». Только не мне.
Сергей хотел что-то ответить, но из комнаты раздался знакомый шорох — тяжёлый, уверенный. Так ходят люди, которые считают, что им должны уступать дорогу. В дверях кухни появилась Нина Петровна, уже в халате, который выглядел так, будто он был отдельным членом семьи. Халат — цветы, завязки, рюши. Прямо наглядное пособие: «я тут хозяйка, но улыбаюсь».
— Ой, вы уже проснулись? — бодро сказала она и сразу скользнула взглядом по столу. — А почему хлеб так нарезан? Кто ж так режет… тоньше надо, тоньше. Серёжа любит тоненько.
Я поймала себя на мысли, что сейчас у меня внутри не злость, а странная холодная ясность. Будто я долго сидела в душной маршрутке, а теперь открыли окно. И воздух ударил в лицо так резко, что слёзы сами потекли — не от жалости, а от облегчения.
— Нина Петровна, — сказала я, не повышая голос. — Это мой дом. И нарезаю я так, как удобно мне.
Она прищурилась. И вот эта её пауза — всегда одинаковая, фирменная: когда она секунду делает вид, что не расслышала, а потом бьёт точно в больное.
— Да кто ж спорит, Оленька… конечно, твой. — улыбка у неё была ласковой, как мокрая тряпка. — Просто странно: женщина в доме — это же уют, это порядок. А у вас… как в общаге.
— Мам, — вяло вставил Сергей. — Ну хватит.
— Я не «хватит», я говорю по делу, — отрезала она и снова посмотрела на меня. — Ты ведь не обижаешься? Я ж как лучше.
«Как лучше» — это у неё универсальный ключ. Им она открывает любые двери. Даже те, куда её не звали.
Если честно, утро началось ещё до их реплик. Оно началось с чёртового чайника, который скрежетал так, будто тоже устал от этой жизни. Я проснулась раньше, лежала и слушала, как Сергей шаркает тапками, как открывает холодильник, как чавкает крышкой йогурта. И думала: он хороший муж, просто удобный. Удобный для своей мамы. А для меня — как мебель: стоит, место занимает, функции какие-то выполняет, но поговорить с ней невозможно.
И всё это на фоне бытового фарса: батареи то еле тёплые, то вдруг жарят, как в бане; вода в кране пахнет железом; в подъезде на первом этаже снова кто-то курил, и дым тянуло к нам. А я стояла у окна, смотрела на двор — песочница, ржавая горка, мусорные контейнеры, собачники с пакетиками — и понимала, что мне здесь не тесно. Мне здесь чуждо.
Сергей однажды сказал: «Ну что ты переживаешь, мы же нормально живём». И он действительно так думал. Нормально — это когда никто никого не бьёт, счета оплачены, телевизор работает, и мама периодически приезжает «поддержать». Он не понимал, что мне от этой «поддержки» хочется выйти в форточку. Не прыгнуть — просто исчезнуть.
Днём я ушла на работу. Офис у нас в пригороде, в здании бывшего техникума: длинные коридоры, вечная пыль, автоматы с кофе, который пахнет надеждой и химией одновременно. Коллеги обсуждали скидки, ремонты, детей, кто где купил плитку, кто с кем развёлся. Я ловила обрывки разговоров и думала: люди строят жизнь из мелочей, а у меня мелочи превратились в удавку.
На обеде у меня зазвонил телефон. На экране — «Нина Петровна». Конечно.
— Алло, — сказала я, стараясь, чтобы голос был ровный. Я научилась этому как навыку выживания: ровный голос — меньше поводов.
— Оленька, здравствуй! — пропела она так, будто мы лучшие подруги. — Ты где пропадаешь? Серёжа один сидит, бедный.
— Я на работе, — ответила я. — Как все взрослые люди.
Пауза. Она проглотила эту реплику, но обязательно вернёт мне её позже.
— Я тут чуть порядок навела, — продолжила она сладко. — Тряпочки твои убрала из-под раковины, они же сырые, там такое разводится… Серёже это вредно. И вообще, ты бы купила нормальные полотенца, а не эти…
— Нина Петровна, — перебила я, и внутри у меня что-то дрогнуло. — Не трогайте мои вещи.
— Ой, да что ты сразу, — вздохнула она так, будто я её ударила. — Я же помочь хотела. Ты у нас нервная стала. Серёжа из-за тебя переживает.
«Конечно. Он же у тебя бедный мальчик. Даже когда ему тридцать пять, он всё равно бедный мальчик», — подумала я. Вслух сказала другое:
— Я занята. До свидания.
И нажала сброс раньше, чем она успела развернуть привычное «я вот в твоём возрасте…».
Я сидела с телефоном в руке и смотрела в серое окно столовой. На парковке мужик отряхивал снег с лобового стекла, хотя снега почти не было — так, грязная каша по краям. И мне вдруг захотелось сделать что-то простое и точное: не спорить, не объяснять, не оправдываться. Просто поставить точку. Но я знала себя: пока я думаю — я терплю. А пока терплю — они наглеют.
Вечером я вернулась домой с пакетами. В подъезде снова пахло чужой жизнью: жареным, кошачьим кормом и табаком. Дверь в квартиру была не заперта до конца. Я толкнула — и услышала телевизор. И голоса. Их голоса.
— Серёж, ты вон на работе устаёшь, а дома должен отдыхать, — говорила Нина Петровна. — А ты всё на себя взвалил. Ты же мужчина. Тебя должны беречь.
— Ну да, мам, — лениво ответил Сергей. — Оля тоже устает.
— Оля… — протянула она, и по этому «Оля» я поняла: сейчас будет самое интересное. — Оля женщина. Женщина должна… ну, сама понимаешь.
Я зашла на кухню. На столе стояла моя чашка, но в ней был налит чай — не так, как я делаю, а так, как делает Нина Петровна: крепко, до горечи, и с сахаром. Сахарницу она переставила. Естественно. Даже сахар должен быть «правильно».
— О, пришла, — сказала она, не поднимаясь. — А мы тут чай пьём. Я Серёже говорю: тебе надо питаться нормально. А то у вас… перекусы одни.
— Я вижу, — сказала я и поставила пакеты.
Сергей поднял глаза. Взгляд у него был виноватый, но не извиняющийся. Виноватый как у ребёнка, который знает, что маме нельзя перечить, а жене — как-нибудь потом объяснит.
— Оль, ты чего такая? — спросил он, будто я пришла с войны.
— Потому что я устала, — сказала я. — И потому что мне надоело, что здесь всё решают за меня.
— Никто за тебя ничего не решает, — тут же отрезала Нина Петровна. — Ты драматизируешь. Вот у меня в молодости…
— Нина Петровна, — я повернулась к ней. — Вы приехали без моего согласия. Вы переставляете вещи. Вы открываете шкафы. Вы обсуждаете, как мне жить. И вы учите моего мужа, как ему «надо». Это не помощь. Это — вторжение.
Сергей дёрнулся.
— Оль, ну не так резко…
— А как? — я посмотрела на него. — Мягко? Чтобы всем было удобно, кроме меня?
Нина Петровна театрально сложила руки на груди.
— Серёжа, ты слышишь? — сказала она с обидой профессиональной актрисы. — Она меня обвиняет. Я к вам приехала, потому что скучала. А она…
— Я вас не приглашала, — сказала я.
И вот тут у неё на лице впервые мелькнуло настоящее — злое, голое. Она быстро прикрыла его улыбкой, но я увидела.
— А кто ты такая, чтобы приглашать или не приглашать? — тихо сказала она. — Это мой сын. Это его дом тоже.
— И мой дом, — ответила я. — И я здесь живу не «тоже». Я здесь живу.
Сергей хлопнул ладонью по столу — не сильно, но так, чтобы показать: он, видите ли, мужчина.
— Всё, хватит! — сказал он. — Я не собираюсь слушать ваши разборки. Мама приехала — значит, так надо. Оля, потерпи. Мам, не начинай.
Я рассмеялась. Смешно было не от радости. Смешно было от ясности. Вот он — весь Сергей. Миротворец, который мирит так, что один всегда должен молчать. И этот один — я.
— «Потерпи», — повторила я. — Я только этим и занимаюсь. Свадьбу терпела, когда ваша мама командовала, какую скатерть стелить. Терпела ремонт, когда вы вдвоём решили, что мне «и так нормально». Терпела, когда вы обсуждали меня на кухне, думая, что я не слышу. И знаешь что? У меня терпение кончилось.
Нина Петровна резко встала.
— Ах вот как! — голос у неё задрожал от злости. — Да ты вообще понимаешь, кому обязана? Серёжа тебя на себе тащит! Ты без него…
— Я без него хотя бы дышать буду, — перебила я. — А сейчас мне воздуха не хватает.
Сергей побледнел.
— Ты что несёшь? — спросил он. — Ты сейчас реально про развод?
— Я сейчас про то, что мне надоело быть третьей лишней в собственной семье, — сказала я. — Ты вечно между мной и мамой. Только выбираешь ты всегда не меня. Просто делаешь это тихо, чтобы потом говорить: «я никого не выбирал».
Он открыл рот. И снова — как всегда — не нашёл слов. Потому что правда — она не требует слов. Она просто стоит посреди кухни, как мокрые следы на полу.
Через час я закрылась в спальне. Слышала, как они шепчутся в комнате, как она вздыхает «бедный мой мальчик», как он отвечает «да она просто устала». И от этого «просто устала» меня трясло. Устала. Да, устала. Только это не усталость — это когда тебя медленно стирают, день за днём, и ты уже не помнишь, какая ты была до этого.
Я подошла к подоконнику. Там стояли мои фиалки — нежные, упрямые. Я выращивала их два года. Маленькая глупость, которую я берегла как доказательство: я умею заботиться, я умею создавать что-то живое. И, наверное, именно поэтому они так раздражали Нину Петровну. Всё, что не она — раздражает.
На следующий день произошло то, что стало последней каплей.
Я пришла домой — и увидела в кухне мусорный пакет. Открытый. А рядом — земля на полу. И горшок. Мой горшок.
Нина Петровна стояла над этим, как санитар над носилками.
— Вы что делаете? — спросила я так тихо, что сама испугалась собственного голоса.
— Да выбросить хотела, — спокойно ответила она. — Они у тебя какие-то дохлые. Только пыль собирают. Я тебе как женщина женщине говорю: не нужно в доме лишнего хлама.
— Это не хлам, — сказала я.
— Ой, ну начинается, — она закатила глаза. — Серёжа, иди сюда! Скажи ей, что я правильно делаю.
Сергей вышел, посмотрел на землю, на горшок, на меня.
— Оль… — начал он осторожно. — Ну это же… цветы.
Вот в этот момент у меня внутри что-то щёлкнуло. Не взорвалось, не загорелось — просто щёлкнуло, как выключатель.
— Да, Серёжа, — сказала я. — Цветы. А завтра она решит, что лишняя тут я. И ты скажешь: «ну это же… Оля».
Нина Петровна фыркнула.
— Никто тебя не выгоняет, не выдумывай, — сказала она. — Но ты должна понимать своё место. В семье.
Я медленно подняла горшок, стряхнула землю с ладони и посмотрела на неё.
— Моё место? — переспросила я. — Моё место — в моём доме. И я сейчас решу, кто здесь лишний.
Сергей шагнул ко мне, будто хотел остановить.
— Оль, не надо…
— Поздно, — ответила я.
Утром в квартире была странная тишина. Нина Петровна ушла «в магазин за нормальной колбасой». Сергей валялся на диване с телефоном, изображая мир. Я стояла у окна и смотрела, как во дворе женщина в пуховике тащит санки с ребёнком по грязному снегу. Ребёнок орал, женщина молчала. И я вдруг поняла: вот она, Россия в миниатюре. Кто-то орёт, кто-то тащит, кто-то делает вид, что так и надо.
Я пошла в спальню, открыла шкаф. В углу стоял чемодан — тот самый, с которым мы когда-то ездили отдыхать. Когда-то мы были «мы». Сейчас это слово звучало как ошибка.
Я вытащила чемодан, поставила на кровать, щёлкнула замками. И начала складывать вещи. Не свои.
Сергей появился в дверях почти сразу.
— Оль, ты что делаешь? — спросил он, и в голосе наконец-то появился страх. Настоящий. Не бытовой, не «ой, ссоритесь», а страх потери привычного.
Я не обернулась.
— Собираю лишнее, — сказала я.
— В смысле? — он сделал шаг. — Ты… ты куда собралась?
— Я? — я повернулась к нему и впервые за долгое время почувствовала, что говорю спокойно. По-настоящему спокойно. — Нет, Серёж. Это не я.
Он смотрел на чемодан, как на приговор.
— Ты с ума сошла…
— Возможно, — ответила я. — Но знаешь, что странно? Мне впервые за долгое время легко.
И в этот момент в прихожей хлопнула входная дверь. Так хлопают люди, которые возвращаются домой без спроса.
— Ну всё, я пришла! — раздался голос Нины Петровны. — Ой, а что это у вас так тихо?..
Я закрыла чемодан.
И пошла в коридор — ровно, без спешки, как человек, который наконец-то решил, что дальше будет по его правилам.
Нина Петровна стояла у двери с двумя пакетами, в одном торчал батон, в другом — что-то в пластиковых лотках. На лице — выражение «я сейчас вас всех построю и ещё объясню, почему вы благодарны». Сергей вышел следом и застыл у стены, как школьник, который надеется, что вызов к директору рассосётся сам.
— Ой, а что это у вас… — начала свекровь и осеклась, увидев чемодан в спальне через приоткрытую дверь. — Это что такое?
— Это ваш чемодан, — сказала я так спокойно, что сама удивилась. — Собирайтесь.
Нина Петровна медленно поставила пакеты на тумбочку, будто боялась, что они тоже окажутся «лишними». Потом повернулась ко мне, вглядываясь, как врач в плохой анализ.
— Ты чего это разыгрываешь? — голос у неё стал ниже, тяжелее. — Ты думаешь, напугаешь? Устроила цирк на ровном месте.
— Я не устраиваю. Я заканчиваю, — ответила я. — Вы живёте тут третий день, как у себя. Я сказала — хватит.
Сергей кашлянул, сделал шаг вперёд.
— Оля, давай спокойно… ну правда… — начал он тем самым тоном, которым обычно успокаивают буйного человека, не вникая, почему он буйный. — Мама же…
— Серёжа, не «мама же», — я посмотрела прямо на него. — Ты сейчас либо слышишь меня, либо идёшь вместе с ней. Всё. Без промежуточных вариантов.
Он заморгал. Я видела, как он судорожно ищет, где у этой ситуации кнопка «отложить». У него всегда так: если затянуть — может, само пройдёт.
Но Нина Петровна кнопку нашла быстрее.
— Ах вот как, — она растянула слова, как резину. — Значит, ты решила нас выставить? Меня — из квартиры моего сына? Ты вообще понимаешь, что говоришь?
— Мой сын, моя квартира, моё, моё, моё… — я кивнула. — Понимаю. Я всё прекрасно понимаю. И ещё я понимаю, что вы тут не гости. Вы тут инспектор. И вы привыкли, что все молчат.
Она резко подняла подбородок.
— Я привыкла к уважению, — сказала она. — А ты всё время огрызаешься. С самого начала. Я ведь тебе помогала. Я тебя в семью взяла.
Сергей снова влез:
— Мам, ну не начинай…
— А я не начинаю! — рявкнула она и резко повернулась к нему. — Серёжа, ты что стоишь? Скажи ей! Скажи, что она не имеет права! Ты мужчина или кто?
Я почти физически почувствовала, как Сергей сжимается между нами. Ему было удобно жить в этом треугольнике: мама давит, жена терпит, а он — посредине, вроде как «миротворец», и никому не должен.

Только сегодня посредины не было.
— Серёжа, — повторила я тихо, — решай.
Он сглотнул.
— Оля… — выдавил он. — Ты перегибаешь. Это всё… ну… из-за ерунды.
— Ерунды? — я коротко усмехнулась. — Ерунда — это когда чай пролили. А это… это когда меня выталкивают из собственной жизни и делают вид, что так и надо.
Нина Петровна шагнула ближе, почти вплотную. От неё пахло магазинной парфюмерией и уверенной правотой.
— Ты вообще кто такая, чтобы указывать? — прошипела она. — Ты думаешь, ты тут хозяйка? Сейчас посмотрим, какая ты хозяйка.
— Мам, — Сергей попытался взять её за локоть. — Ну хватит…
Она отдёрнула руку, как от грязи.
— Не трогай! — и снова на меня: — Ты, Оленька, ведёшь себя так, будто тебе все обязаны. А ты хоть раз подумала, на чьи деньги вы живёте? Кто тут вообще зарабатывает?
Вот тут Сергей резко оживился, как будто она задела его любимую игрушку.
— Оль, правда, давай без этого… — буркнул он. — Я работаю. Я обеспечиваю.
Я посмотрела на него и вдруг поймала себя на странной мысли: вот сейчас он не со мной спорит. Он оправдывается перед мамой. Передо мной он никогда так не старался.
— Ты обеспечиваешь? — переспросила я. — А коммуналку кто платит, Серёжа? А интернет? А холодильник, который мы брали в рассрочку — кто закрывал, когда ты «забыл»?
Он покраснел.
— Ну… я же отдавал…
— Кому? — я сделала шаг к нему. — Кому ты отдавал, Серёжа? Мне — нет.
Нина Петровна резко вмешалась, и по её интонации я поняла: вот оно, настоящее. Не «цветочки», не «хлеб тоньше», не «я как лучше». Сейчас будет причина, ради которой её и притащили.
— Хватит считать копейки, — сказала она. — Тут другой разговор. Сергей, скажи ей.
Сергей дёрнулся, как от удара током.
— Мам…
— Скажи. — она произнесла это так, что спорить было страшно даже взрослому мужчине.
Он посмотрел на пол, потом на меня, и я увидела в его глазах то, чего раньше не видела: не растерянность, не раздражение — вину, настоящую, жирную, как след на обоях.
— Оль… — начал он. — Тут такое дело… Только ты не ори сразу.
У меня внутри всё сжалось.
— Говори.
Нина Петровна сама пошла в атаку.
— Мы хотели по-хорошему, — сказала она. — Но ты же истеричка. Поэтому скажу я. Сергей оформил кредит. Большой. И залог… ну, неважно. Важно другое: ты подпись поставить должна.
Я даже не сразу поняла смысл слов. «Кредит», «подпись» — как будто чужой разговор.
— Какой кредит? — спросила я медленно.
Сергей поднял руки, как будто защищался от меня, хотя я ещё ничего не сделала.
— Оль, ну… я взял. Мне надо было. Ну ты пойми… — он сбивался. — Там проценты… там если не закрыть…
— На что ты взял? — голос у меня стал сухой. — На что?
Он молчал.
Нина Петровна пожала плечами, будто речь о покупке новой шапки.
— На дело, — сказала она. — Серьёзные люди. Сергей хотел подработку сделать, бизнес. Ты же всё равно вечно недовольная: то денег мало, то ремонта нет. Вот он и решил.
Я смотрела на Сергея.
— Серёжа. На что. Ты. Взял.
Он выдохнул и выпалил:
— Я влез в историю. Мне предложили… короче… поставки. Я думал, быстро прокручу, заработаю. Там всё сорвалось. Мне нужно закрыть дыру, иначе… иначе будут проблемы.
— «Проблемы» — это что? — уточнила я.
Он отвёл глаза.
— Ну… могут приехать. Разговаривать.
Нина Петровна сделала шаг вперёд и сказала почти ласково:
— Поэтому ты сейчас без истерик берёшь паспорт, ставишь подпись, и мы решаем вопрос. По-семейному.
Я вдруг отчётливо поняла: её приезд — это не «скучала». Это операция. Давление. Захват. Они пришли не жить — они пришли продавить подпись.
— То есть вы сюда приехали не потому, что соскучились, — сказала я, и внутри у меня поднялась такая ярость, что стало почти холодно. — Вы приехали, чтобы меня прижать.
Нина Петровна развела руками:
— Ты драматизируешь. Это обычная семейная помощь.
— Помощь? — я коротко рассмеялась. — Вы выбрасывали мои вещи, шарились по шкафам, командовали на кухне, а теперь выясняется, что вы ещё и документы сюда притащили. Это не помощь. Это… вы меня в угол загоняете.
Сергей сделал шаг ко мне, попытался взять за руку.
— Оль, ну пожалуйста. Это просто подпись. Мы потом разберёмся. Я всё верну. Я обещаю.
Я отдёрнула руку, как будто он был чужой.
— Ты уже обещал, Серёжа. Ты обещал, что твоя мама «на пару дней». Ты обещал, что она «не будет лезть». Ты обещал, что «мы семья». А на деле ты привёл сюда человека, который давит на меня, и теперь просишь подпись, чтобы закрыть твою дыру.
Нина Петровна резко повысила голос:
— Не смей так говорить! Он мужчина, он ошибся, бывает! А ты… ты должна поддержать мужа! Ты жена!
— Жена — это не бесплатный поручитель, — сказала я. — И не девочка для удобства.
Она вспыхнула:
— Ах ты…
— А вы, — перебила я, — собирайте вещи. Сейчас. Немедленно.
Сергей шагнул вперёд, голос у него стал жёстче, неприятно незнакомый.
— Ты не понимаешь серьёзности, Оль. Это не шутки. Если не решить вопрос, нам будет плохо.
— Вам, — поправила я. — Вам будет плохо. Ты влез — ты и вылезай. Без меня.
Нина Петровна резко взяла телефон.
— Всё, — сказала она. — Я звоню куда надо. Пусть с тобой разговаривают другие. Ты у нас смелая — посмотрим, как запоёшь.
— Звоните, — ответила я и тоже достала телефон. — Я тоже позвоню. Только не «куда надо», а туда, куда по закону.
Сергей побледнел.
— Оль, ты что творишь?
— Я творю спасение самой себя, — сказала я и набрала номер.
Слова давались легко. Удивительно легко. Как будто внутри меня кто-то долго сидел и копил воздух, а теперь наконец выдохнул.
Через двадцать минут у двери стоял участковый. Обычный мужик лет сорока, усталый, с лицом «опять семейные разборки». Я открыла и первой заговорила, чтобы не дать им сыграть свою роль.
— Здравствуйте. Квартира моя. Здесь находятся посторонние люди, которых я прошу уйти, но они отказываются.
Нина Петровна тут же включила спектакль:
— Какие посторонние? Я мать! Он мой сын! Это семья! Она истерит!
Участковый посмотрел на Сергея.
— Документы на квартиру у кого?
— У меня, — сказала я. — В папке.
Сергей открыл рот, но так и не сказал ничего. И это было самым громким признанием. Он понимал: если сейчас начнёт спорить, придётся объяснять про кредит, про подпись, про то, почему мать тут командует. А объяснять он не умел. Он умел только прятаться за чужими словами.
Участковый вздохнул:
— Гражданка… — он обратился к Нине Петровне. — Если собственник просит покинуть помещение, вы обязаны. Это не гостиница.
Нина Петровна покраснела.
— Да вы что! — взвизгнула она. — Она его жена! Это их общее!
Я спокойно сказала:
— Квартира куплена до брака. Оформлена на меня. И у меня есть выписка. Хотите — покажу.
Участковый кивнул:
— Покажите.
Я принесла папку. Руки у меня не дрожали. Это было самое странное: я ожидала, что меня накроет, что я начну задыхаться, что слёзы. А вместо этого — ясность.
Нина Петровна смотрела на бумаги так, будто это личное оскорбление.
— Серёжа, — прошипела она, — ты слышишь? Она нас выкидывает, а ты стоишь!
Сергей сжал челюсти и вдруг выдал:
— Оля, ты потом пожалеешь.
Вот оно. Не «давай поговорим», не «прости». А угроза — мелкая, обиженная.
— Возможно, — сказала я. — Но точно не сегодня.
Участковый посмотрел на них обоих и устало сказал:
— Собирайтесь. Без скандала. Иначе оформим.
Нина Петровна резко схватила пакеты, потом метнулась в комнату, хлопая дверцами шкафа. Громко, демонстративно. Сергей пошёл за ней, бросив на меня взгляд, в котором было что-то детское: «ну спаси меня».
И вдруг я поняла — окончательно: он не взрослый. Он просто вырос физически. А внутри всё ещё сидит мальчик, который ждёт, что женщины вокруг решат за него и под него.
Через сорок минут они стояли в прихожей. Чемодан был закрыт. Нина Петровна уже не играла в ласку — она была злая и голая.
— Ты останешься одна, — сказала она, глядя на меня с холодным удовлетворением. — И никому ты не нужна будешь. Ты думаешь, ты победила? Ты просто разрушила семью.
Я не стала оправдываться. Я только спросила:
— Сергей, ключи.
Он замер.
— Что?
— Ключи. От квартиры.
Он посмотрел на участкового, потом на мать, потом на меня. И медленно, будто отдавал часть себя, положил связку на тумбочку.
Нина Петровна вцепилась в его рукав:
— Серёжа!
— Мам, — сказал он глухо. — Пойдём.
И в этот момент, когда дверь уже почти закрылась, он обернулся и сказал тихо, так, чтобы слышала только я:
— Ты думаешь, всё так просто? Ты не знаешь, во что я влез.
Я выдержала паузу и ответила:
— Вот именно поэтому ты больше не в моей квартире.
Дверь закрылась.
Тишина пришла не мягкая. Она была как пустая комната после драки: всё на местах, но воздух другой.
Я прошла на кухню, села. Посмотрела на землю на полу — от фиалки. На календарь с морем. На его чашку, которую он всегда ставил криво, оставляя круги.
И впервые за долгое время я не почувствовала вины. Только усталость — нормальную, человеческую. Без страха.
Я взяла телефон и открыла сообщения. От Сергея уже было: «Оля, давай поговорим». Следом — «Ты всё испортила». И ещё — «Мама плачет».
Я улыбнулась коротко, без радости.
— Пусть плачет, — сказала я вслух. — Я тоже плакала. Только никто не замечал.
Я встала, подошла к двери и провернула замок два раза. Потом — третий, на внутренний.
И вдруг меня накрыло воспоминанием: как он недавно говорил «это просто подпись». Как будто подпись — это пустяк. Как будто моя жизнь — это приложение к его решениям.
Я достала из ящика ножницы и разрезала его старую банковскую карту, которую он когда-то оставил «на всякий случай». Мелочь, но в ней было что-то символическое. Потом открыла ноутбук и нашла контакты юриста, которого мне советовала коллега после своего развода. Написала коротко: «Нужна консультация. Срочно».
Пальцы не дрожали.
Через час в дверь позвонили снова.
Я подошла, посмотрела в глазок — Сергей. Один. Без матери. Лицо серое, губы поджаты. Он стоял так, будто его выгнали из собственной головы.
Я не открыла. Спросила через дверь:
— Что тебе?
— Оля… — голос у него сорвался. — Дай поговорить. Пожалуйста.
— Говори так, — сказала я. — Я слушаю.
— Ты… ты реально их вызвала? — он хрипло усмехнулся. — Ты понимаешь, как это выглядит?
— Мне плевать, как это выглядит. Мне важно, как это было, — ответила я. — А было так: ты привёл сюда маму и документы, чтобы заставить меня подписать.
— Я не заставлял! — вспыхнул он. — Я хотел попросить. Нормально.
— Нормально — это когда ты заранее говоришь жене правду. Про кредит. Про долги. Про то, что к тебе могут приехать «разговаривать». А ты молчал. Ты прятался. Ты надеялся, что мама всё продавит.
Он молчал. Потом тихо сказал:
— Мне страшно.
Я почувствовала, как внутри что-то шевельнулось — не жалость, нет. Скорее, остаток прежней привычки: «спаси». Но я не дала этому поднять голову.
— Мне тоже было страшно, — сказала я. — Только я была одна. А ты был с мамой.
— Я не хотел тебя втягивать, — пробормотал он.
— Ты уже втянул. Тем, что поставил меня перед фактом. И тем, что ты живёшь так, будто мои чувства — это шум на фоне.
Он резко ударил ладонью по двери.
— Оля, открой! Нам надо решить!
— Решай сам, — спокойно ответила я. — Я не твой спасательный круг.
Пауза.
— Ты думаешь, ты сильная? — голос у него стал злым. — Да ты просто… просто…
— Просто что? — спросила я.
Он выдохнул:
— Просто упрямая.
— Нет, Серёжа, — сказала я. — Я просто перестала быть удобной.
За дверью было слышно, как он дышит. Потом тихий звук — будто он прислонился лбом к косяку.
— Я всё равно люблю тебя, — сказал он наконец, и это прозвучало так неуместно, что мне стало почти смешно.
— Любовь — это не когда тебя ломают, а потом говорят «я же люблю», — ответила я. — Уходи.
— Куда мне идти? — спросил он глухо.
— Туда, где тебе всегда было удобно, — сказала я. — К маме.
Он долго молчал. Потом шаги. Лифт. Тишина.
Я вернулась на кухню и наконец убрала землю с пола. Аккуратно, не торопясь. Фиалку я пересадила. Листья были живые. Упрямые.
Телефон снова пискнул — сообщение от Нины Петровны: «Ты ещё приползёшь. И Серёжу мне вернёшь. Такие как ты всегда приползаете».
Я не ответила. Я просто заблокировала номер.
Потом подошла к календарю с морем, сорвала его со стены и выбросила в мусор. На стене осталась светлая полоска — как след от чужого присутствия.
Я посмотрела на неё и подумала: следи сколько хочешь. Но место теперь моё.
И в этот момент я впервые по-настоящему поняла, что самое страшное уже произошло не сегодня. Самое страшное произошло раньше — когда я привыкла молчать.
Сегодня я просто перестала.