Летом 1944-го три израненных B-29 «Суперфортресс», шедших с японских бомбёжек, приземлились на советских аэродромах в Приморье. У них заканчивалось топливо, машины были повреждены, и экипажи искали спасения. По правилам войны союзническая помощь требовала вернуть их американцам. Но в Кремле решили иначе. Самолёты немедленно арестовали, обнесли ангарами, выставили вооружённую охрану, и в тишине секретных заводов начался демонтаж: каждая клёпка, каждый проводок, каждая диковинная деталь изучались и копировались. Так «Суперфортресс» породил Ту-4 — бомбардировщик, который стал не просто копией, а вызовом миру: «Мы тоже можем».

Работа над Ту-4 превратилась в битву на заводах и в конструкторских бюро. ОКБ Туполева срочно свернуло перспективный проект «64» и сосредоточило усилия на клонировании американского B-29. Завод №22 в Казани получил приказ заложить сразу головную серию из двадцати машин — без прототипов и пробных экземпляров. Заводские инженеры и конструкторы Туполева бросили все силы на то, чтобы разгадать загадки американской технологии: сложнейшие гидросистемы, герметичные кабины, продвинутая электроника — всё это казалось фантастикой. Каждый день был борьбой с непокорной технологией и непривычным для советской промышленности уровнем сложности. Но ставки были слишком высоки: за спиной у конструкторов стоял сам Берия, и провал означал не просто крах проекта, а конец карьеры, а может быть, и жизни.
Весной 1947-го первый собранный Ту-4, ещё именуемый Б-4, поднялся в небо. Экипаж из заводских лётчиков под руководством Рыбко пробивал дорогу в воздух, штурмуя не только аэродинамические законы, но и массу конструктивных недочётов. Штурвал казался тугим, тросы управления не вытягивались, ламповая электроника двигателя АШ-73ТК капризничала на высоте, а наддув срывался на максимальной тяге. Однажды во время полёта на глазах экипажа загорелся двигатель, и только благодаря мастерству лётчиков самолёт удалось посадить на двух моторах. Каждый вылет превращался в испытание на прочность — не только для машины, но и для людей, которые в ней сидели. И с каждым полётом Ту-4 шаг за шагом превращался из чужой реплики в самостоятельное советское оружие.
Тем временем Казанский завод №22 наращивал производство, превращая идею в железо. Машины сходили с конвейера всё быстрее, но каждая новая партия приносила новые проблемы. Сборочные цеха были полны инженерных загадок: как перепроектировать гидросистемы под отечественные стандарты, как заменить алюминий американской закалки, как обучить персонал, привыкший к другим самолётам? Каждый день приносил новые компромиссы. Заводские инженеры изобретали, приспосабливали, иногда буквально импровизировали на коленке, чтобы Ту-4 продолжал своё шествие. Но это было не просто повторение чужого пути — с каждым новым самолётом «четвёрка» всё больше обретала собственное лицо. И когда три новеньких Ту-4 взмыли в небо над Тушино в августе 1947-го, это было не просто демонстрацией, а заявкой: «У нас есть свой тяжёлый бомбардировщик».
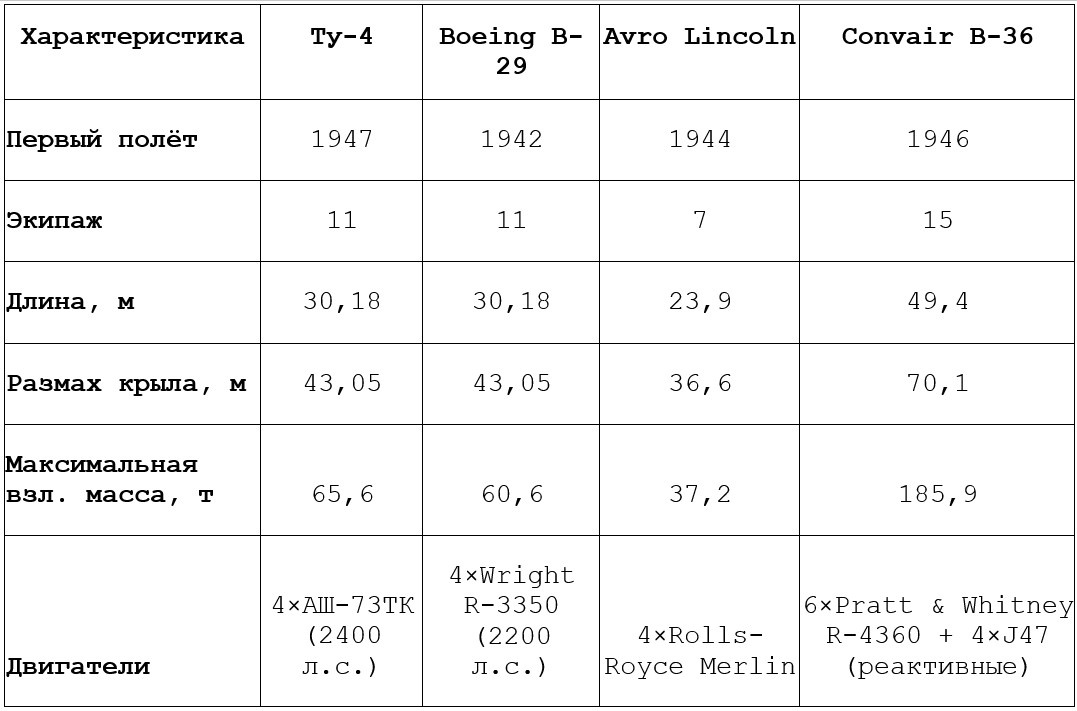
Но за красивой обложкой скрывалась суровая реальность. Ту-4 оказался капризным и непредсказуемым в эксплуатации. Двигатели АШ-73ТК норовили задымить или вовсе загореться в полёте, турбокомпрессоры ТК-19 требовали постоянной доводки. Порой винты раскручивались на ходу, теряя лопасти, которые прошивали соседние гондолы, пробивая баки и крыло. Приходилось сражаться за каждую машину: инженеры, техники и лётчики жили на пределе. Случались катастрофы, но проект не сворачивали — слишком много в него было вложено. Каждый новый полёт был боем за будущее: за то, чтобы Ту-4 стал не просто копией B-29, а полноценным, надёжным оружием для советской авиации.
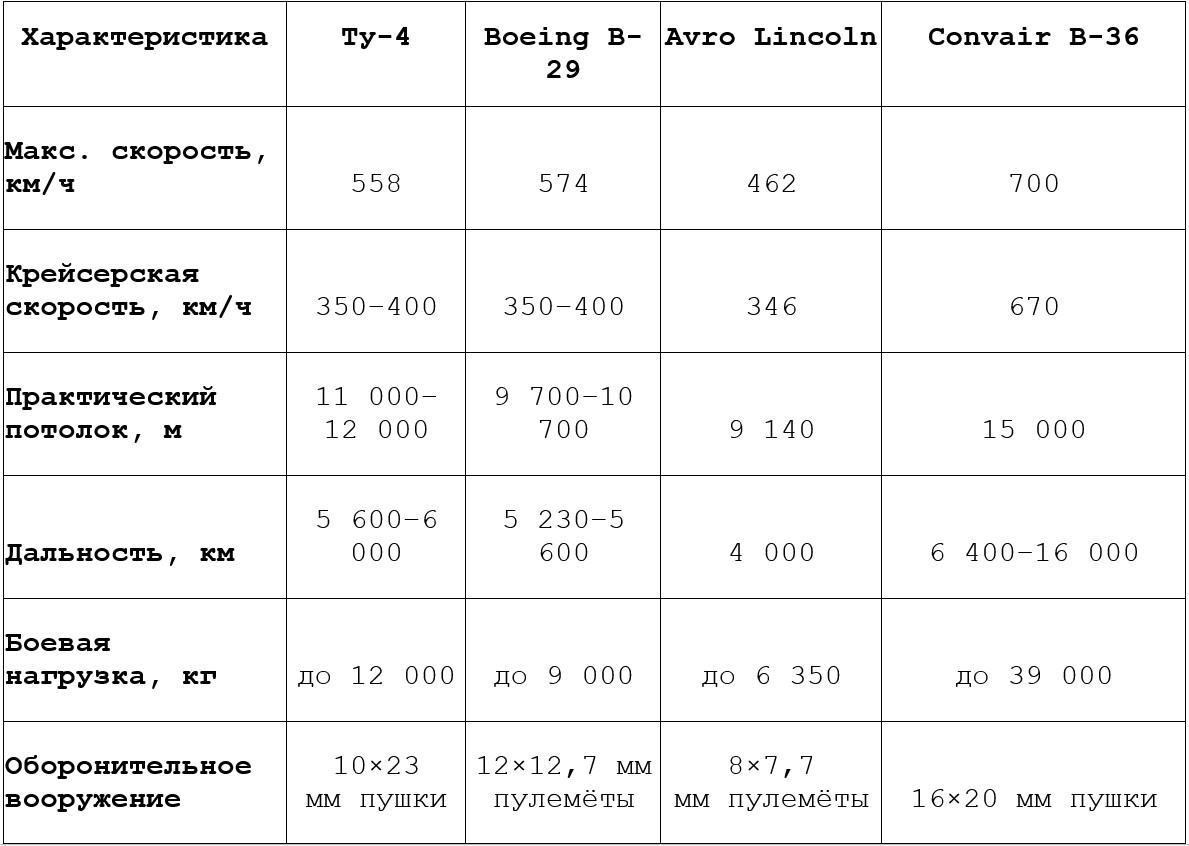
Когда первые серийные Ту-4 стали поступать в строевые части, самолёт сразу попал в центр внимания. Экипажи переучивали в Казани, на базе 890-го дбап, где летчики осваивали управление «четвёрками», сидя за штурвалами, построенными по образу B-29. В Полтаву, в 185-й гвардейский авиаполк, прибыла первая партия машин. Полки дальней авиации, переименованные в тяжёлые бомбардировочные, начали учения, отрабатывая массовые удары по целям на территории противника. Удары были рассчитаны на военные, промышленные и политические центры Европы, с использованием баз в Восточной Германии и странах Варшавского договора. Ту-4 оказался не просто самолетом — это была летающая угроза, тяжёлая тень над Западом, за которой стояла амбиция СССР показать свою мощь в ядерной гонке.
Каждая новая серия Ту-4 становилась шагом вперёд в технологической гонке. Пулемёты УБ сменялись на более мощные пушки Б-20Э, а позднее на НС-23, позволявшие отбиваться от истребителей, пока бомбардировщик нёс свой смертоносный груз. Появились новые локаторы, такие как «Кобальт» и его модернизированные версии, позволявшие вести бомбометание ночью и в плохую погоду. Навигация усложнялась: гирокомпасы, радиокомпасы, автоматический прицел ОПБ-18. В кабинах — термосы, спальные места, даже ведра для туалета с герметичными крышками. Каждая деталь, от пушечного управления до гермокабин, напоминала: Ту-4 — это не просто летающая машина, это боевой корабль, созданный для того, чтобы доставить удар в самое сердце врага.
Самым страшным оружием, ради которого создавался Ту-4, стала атомная бомба. Советские конструкторы адаптировали американские технологии, дорабатывая Ту-4 под ядерное вооружение. Появились Ту-4А, оснащённые системами взведения заряда и специальными подвесами для первых советских атомных бомб. Эти самолёты сбрасывали макеты на полигонах, испытывали парашютные системы, траектории падения. И наконец, 18 октября 1951 года в Семипалатинске экипаж Ту-4А под командованием Уржунцева сбросил реальную атомную бомбу «Мария» с зарядом РДС-3. В воздухе, на высоте 350 метров, вспыхнуло солнце новой эпохи. Это было не просто испытание — это был вызов миру: у СССР появился свой ядерный щит, и Ту-4 стал его крылатым носителем.
Ту-4 оказался не только носителем бомб — он стал летающей лабораторией для целой череды экспериментов. На его борту испытывали новые пушки, радиолокаторы, автоматические системы наведения. Машину дорабатывали под ракетоносцы: так появились Ту-4К с крылатыми ракетами КС-1, которые наводились на цель по лучу РЛС. Самолёты оснастили новыми локаторами «Комета», ракетами класса «воздух-воздух» и даже оборудовали их под летающие мишени для отработки противовоздушной обороны. Ту-4 испытал и телевизионные системы наведения для управляемых авиабомб, и системы дозаправки в воздухе, включая экзотическую схему «крыло-крыло». Машина стала настоящим полигоном для новых идей, многие из которых родились в головах инженеров Туполева, но так и остались на чертежах и стендах.
Единственной страной, куда поставлялся Ту-4, стал Китай — союзник СССР в те годы. В 1953 году двадцать пять «четвёрок» прибыли в Поднебесную, и обучение китайских экипажей началось на месте. Курсы были жёсткими, дисциплина — железной. Китайцы оказались старательными учениками, но ошибки карались мгновенно: за промахи на учениях экипаж могли отправить на гауптвахту. Поначалу боевые вылеты на Тайвань возглавляли советские лётчики, но вскоре подготовленные экипажи Народно-освободительной армии сами вели Ту-4 в небо. Даже после начала передачи документации на Ту-16, «четвёрки» ещё долго оставались основой китайской дальней авиации. В 70-х на них установили советские ТВД АИ-20М от Y-8, а в 80-х некоторые машины переоборудовали для запуска беспилотников. Окончательно Ту-4 ушёл с арены лишь в 90-х, когда его место заняли новые самолёты, а последние уцелевшие машины стали музейными экспонатами.
Ту-4 стал для СССР не просто копией американского B-29, а символом амбициозной догоняющей индустрии, сплавом инженерного мастерства и сурового политического расчёта. Он был рождён не из вдохновения, а из вынужденной необходимости — страна, израненная войной, рванулась за океанским гигантом, который однажды сел на её аэродромы. Из этого стремления родился первый советский стратегический бомбардировщик, который десятилетиями внушал уважение союзникам и страх потенциальным противникам. Да, он был несовершенен. Да, его создание было сопряжено с проблемами, потерями и даже трагедиями. Но именно с Ту-4 началась эпоха, когда Советский Союз мог сказать: «У нас есть свои крылья, и эти крылья — угроза любому врагу». С ним началась история советской дальней авиации, истории о которой сегодня можно говорить лишь с уважением и лёгкой грустью.



















