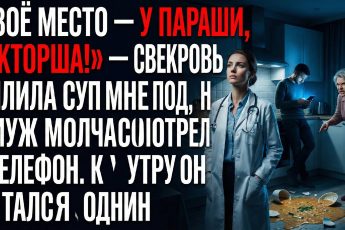Леонид молча протянул ей чашку с чаем, от которого пахло чабрецом и смородиной. Вера приняла её, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. Его — сухие, шершавые, с въевшейся в кожу землёй. Её — гладкие, прохладные, привыкшие к мелу и красной пасте. Она села в старое плетёное кресло на веранде.
Они молчали, это была их уютная тишина, сотканная не из пустоты, а из множества звуков: стрекота кузнечиков в высокой траве, далёкого лая собаки, еле слышного шелеста яблоневых листьев. Эта тишина была живой, дышащей, и она грела Веру изнутри, как горячий чай в её руках.
Смотрела на профиль Леонида, на морщинки у глаз и думала о том, какой другой была её тишина ещё три месяца назад. Той, её прежней тишине, было десять лет. Она поселилась в её родительской квартире в тот самый день, когда после похорон матери впервые открыла дверь своим ключом и вошла в абсолютно пустой дом. Тогда оглушила пустота, не было звуков, только запахи — пыльных книг в отцовском кабинете, старого дерева, маминых духов, которые ещё не успели выветриться.
Она не боролась с этой тишиной, а приняла её, ка хроническую, неизлечимую болезнь. Смирилась, научилась жить в ней, как живут в старом, ветхом доме, зная каждую его трещинку, каждый скрип.
А потом появился Леонид, геолог на пенсии, вдовец, купивший соседний дачный домик. Он не ворвался в её мир, а вошёл в него на цыпочках, деликатно, как входят в храм. Сначала он починил её вечно скрипевшую калитку, потом появился на её пороге с ведром отборной, крупной картошки. «Вера Николаевна, — сказал он, смущённо переминаясь с ноги на ногу. — У вас земля — под картофель не годится. А у меня — чернозём. Возьмите, куда мне одному столько».
Потом начались чаепития на веранде. Они почти не говорили, просто были рядом и Вера поняла, что её одинокая, мёртвая тишина вдруг наполнилась жизнью, теплом, смыслом.
Когда первые заморозки посеребрили траву, они переехали в её городскую квартиру. Он вёл себя так же деликатно, поставил на полку свою единственную книгу — толстый том про минералы. В ванной, в уголке, пристроил свою бритву и зубную щётку. Не занимал пространство, а бережно вписывался в него.
Они не говорили о будущем, не строили планов, а говорили о прошлом, словно выстраивая мост между двумя одинокими островами. Рассказывал ей о своих экспедициях на Таймыр, о том, как неделями жил в палатке, о своей жене, которая ждала его по полгода и писала письма. А она — о своих учениках, о смешных ошибках в их сочинениях: «Татьяна любила Онегина, но он её динамил»; о том, как в детстве мечтала стать балериной. Это был осторожный обмен мирами, создание общего фундамента, на котором, возможно, когда-нибудь можно будет построить дом.
Идиллию нарушил телефонный звонок. В тот самый вечер, когда Леонид принёс билеты в филармонию, «на Вивальди», они смеясь, обсуждали, что же ей надеть. На экране телефона высветилось имя сестры, «Марина», как сигнал тревоги.
— Алло.
— Верочка, сестрёнка, привет! Слушай, у нас тут форс-мажор! Катастрофа! Мы ремонт затеяли, капитальный, а рабочие, сволочи, нас кинули! Взяли аванс и пропали! А у нас ни пола, ни потолка! Мы с Пашкой и с котами на съёмной комнатушке ютимся, клоповник какой-то! Верочка, выручай!
Вера молчала, чувствуя, как сжимается сердце.
— Нам бы на пару-тройку недель, пока новых мастеров найдём. Мы тихо, как мышки, честно! В уголочке пристроимся. Ты же у нас одна, не в тесноте живёшь! Места всем хватит!
Эта фраза, «Ты же у нас одна», прозвучала как диагноз, который ей ставили всю её сознательную жизнь: «Вера, посиди с племянником, ты же у нас одна, тебе всё равно делать нечего». «Вера, помоги нам картошку копать, ты же одна, не устаёшь». Всю жизнь была удобным, безотказным ресурсом для всей своей многочисленной родни, потому что у неё не было своей жизни.
И вот сейчас, когда эта жизнь, тихая, хрупкая, только-только начала проклёвываться, её снова пытались вернуть в привычную, удобную для всех роль. Посмотрела на Леонида, он всё понял по её лицу и деликатно вышел в другую комнату.
Она должна была сказать «нет», твёрдое, окончательное, но многолетняя привычка быть хорошей, быть удобной, вбитая с детства строгой матерью: «Девочка не должна перечить старшим!», оказалась сильнее. Мысль «Как можно отказать родным в беде?» перевесила все дурные предчувствия.
— Хорошо, приезжайте.
Положила трубку, Леонид вернулся в комнату.
— Всё в порядке?
— Да, просто… сестра приедет с мужем на пару недель, у них ремонт.
***
«Пара-тройка недель» началась с грохота и пыли. В субботу утром Паша, муж Марины, втащил в квартиру первый мешок со строительной смесью. Мешок оказался дырявым, и за ним по всему коридору, по начищенному Верой паркету, потянулась белая дорожка.
— Ой, простите, Вера Николаевна! Руки-крюки!
Даже не попытался убрать за собой.
За мешком последовали коробки с инструментом, вёдра с засохшей краской, старые обои в рулонах. А потом Марина внесла два кошачьих лотка, и привычный аромат яблочного пирога царивший в квартире, был безжалостно вытеснен резким запахом аммиака.
Их два кота, огромный рыжий мейн-кун и сиамская кошка, тут же начали осваивать новую территорию. Шипели друг на друга, носились по комнатам, сшибая с полок безделушки, и точили когти о ножку старого отцовского кресла.
Марина, казалось, не замечала этого хаоса и с энергией оккупанта начала улучшать Верин мир.
— Вер, ну что это у тебя за мрак? — сдёргивая с окна тяжёлые бархатные шторы. — Пылесборники! И света белого не видно! Сейчас мы повесим лёгенький тюль, сразу дышать легче станет!
Она не предлагала, а констатировала и делала. И вот уже на карнизе, вместо благородных, хранящих память о родителях штор, висела дешёвая синтетическая занавеска с ромашками.
Леонид, человек деликатный и привыкший к совершенно другому укладу, сразу почувствовал себя лишним. Старался как можно меньше бывать дома, уходил гулять в парк, засиживался в библиотеке, но вечерами, за ужином, он неизбежно попадал под перекрёстный огонь.
— Леонид Иванович, а вы правда геолог? — начинала Марина. — Надо же, а я всегда думала, они все такие… бородатые, с гитарами, романтики, а вы вон какой интеллигентный, даже и не скажешь, что по тундре бродили.
Паша, в свою очередь, пытался втянуть его в свой мир, громких политических споров и кухонных баталий.
— Иваныч, а ты вот скажи мне как мужик мужику. Ты за кого — за наших или за этих? Сейчас же такое время, нельзя быть в стороне! Мужик должен иметь чёткую позицию!
Леонид обычно отшучивался или пытался перевести разговор, но Вера видела, как он внутренне сжимается, как ему неуютно в этой атмосфере.
Последней каплей стала атака на их отношения.
— Верочка, — сказала Марина. — А что же твой Леонид Иванович тебе на даче баню-то не поставит? Вон, у Светки моей, подруги, муж — так у него руки золотые! И дом построил, и баню, и беседку. А тут… геолог… не по-мужски это как-то, столько лет вроде вместе, а до сих пор даже бани нет.
Леонид побледнел, посмотрел на Веру, и в его глазах увидела такую боль и обиду, что перехватило дыхание. Это был удар ниже пояса, Марина не просто его оскорбила, а вторглась в их хрупкую договорённость — не торопить события, не требовать, не ждать.
В тот вечер, когда они наконец остались одни, Леонид тихо сказал:
— Вер, я, наверное, у себя переночую.
— Лёня, не надо…
— Надо, Верунь. Это твой дом, твоя сестра и не мне здесь устанавливать свои порядки, но я не могу просто сидеть и смотреть, как гаснет свет в твоих глазах. Как ты из хозяйки превращаешься в испуганную гостью в собственной квартире.
Он не упрекал, но его слова прозвучали для Веры страшнее любого упрёка. Он не хлопал дверью, просто показал ей зеркало, и то, что она в нём увидела, её ужаснуло. Поняла, что своим бездействием, своим молчаливым согласием сама, собственными руками, выталкивает его из своей жизни.
Её внутренний конфликт обострился до предела, не могла спать. Слышала, как за стеной, в её комнате, Марина до полуночи громко разговаривала по телефону. Однажды, проходя мимо, она услышала обрывок разговора.
— …да она тут совсем мхом поросла в своих книжках и пыльных занавесках! Я ей, можно сказать, жизнь в дом принесла, движение, а она нос воротит! Этот её геолог такой же пыльный, как её гербарий. Я же ей добро делаю, понимаешь? Вытаскиваю её из этого болота! А она, дурочка, своего счастья не понимает!
Вера застыла в коридоре, поняла, что спорить с Мариной бесполезно. Невозможно переубедить человека, который искренне считает себя спасателем.
***
Прошёл месяц. «Пара-тройка недель» растянулась в бесконечную вечность. Шум в квартире Веры стал фоном её жизни, как гул трансформаторной будки за окном — к нему почти привыкаешь, но он продолжает медленно, монотонно разрушать твои нервы.
В тот вечер она вернулась домой позже обычного, родительское собрание в её девятом «Б» было тяжёлым. Обсуждали хамство подростков, их тотальное равнодушие к учёбе, вечно занятых, озлобленных родителей, которые во всех грехах винили школу. Вера, как всегда, пыталась гасить конфликты, находить нужные слова, вышла с собрания выжатая, как лимон, с гудящей головой и единственным желанием было, просто заварить свой любимый зелёный чай с жасмином, сесть за старый отцовский письменный стол в своей комнате, включить настольную лампу и погрузиться в тишину, проверяя стопку сочинений.
За этим столом отец, профессор-филолог, писал свои статьи, старая настольная лампа с зелёным абажуром до сих пор стояла на том же месте. На полированной тёмной поверхности всегда царил идеальный порядок: стопка тетрадей, стаканчик с идеально отточенными карандашами, маленькая фотография родителей в рамке. И, главное, — тонкий, потрёпанный томик стихов отца, который издал за свой счёт крошечным тиражом в сто экземпляров. Книга, которую она знала наизусть.
Она вошла в комнату и замерла на пороге.
Стол был сдвинут к стене, чтобы освободить место для раскладушки Паши, но это было не самое страшное. На его отполированной поверхности, где никогда не стояло ничего, кроме книг и бумаг, царил хаос. В центре — раскрытый ноутбук Паши, из динамиков которого орала какая-то пошлая комедия, рядом валялись крошки от чипсов, пустая пачка из-под сигарет. А сбоку, прямо на обложке сборника стихов её отца, стояла большая, литровая кружка с остатками недопитого пива, от неё по синему, тиснёному, переплёту расползался тёмный круг.
Это было не нарушение порядка, а осквернение, плевок в душу. Посягательство на самое святое, память.
В этот момент в ней что-то оборвалось, та Вера Николаевна, которая десять лет была удобной, понимающей, хорошей, которая всегда входила в чужое положение, — эта женщина умерла, на её месте родилось что-то другое.

В комнату, жуя на ходу бутерброд, вошла Марина.
— О, Вер, а ты чего так рано? Мы тут кинчик решили глянуть, расслабиться…
Говорила весело, не замечая ничего, не видя застывшего лица сестры, её глаз, в которых больше не было ни тени привычной робости. Вера повернула голову, голос был очень тихим.
— Собирайте вещи.
Марина перестала жевать.
— Чего?
— Я сказала, собирайте ваши вещи.
— Ты что, сестра? С ума сошла? На ночь глядя?! Куда мы пойдём?! Мы же родня!
— Родня не ставит пивные кружки на книги моего отца, не топчет чужую душу грязными сапогами, думая, что делает добро. Вы не родня, а — шумные, неаккуратные постояльцы и ваше время пребывания здесь вышло.
В комнату заглянул Паша.
— Что тут происходит?
— У вас есть один час, ровно через час я позвоню Леониду Ивановичу, вызовет наряд полиции и они помогут вам освободить помещение.
Не угрожала, а информировала.
— Да ты… ты… — задыхалась от ярости Марина.
Вера не стала её слушать, подошла к столу, с отвращением, двумя пальцами, взяла ноутбук Паши и захлопнула его, оглушительная пошлость комедии стихла. Потом взяла пивную кружку и, пройдя мимо них, молча вылила содержимое в горшок с фикусом, который они притащили с собой.
Марина и Паша смотрели на неё, как на сумасшедшую и не понимали, что произошло. Мокрый круг на книге был не просто пятном, а был последней каплей, которая переполнила чашу многолетнего терпения.
***
Они уехали через сорок минут, шумно, с грохотом, бросая в пустые коробки свои вещи вперемешку с обвинениями.
— Бессердечная! — кричала Марина. — Эгоистка! Одной книжкой попрекнула!
— Мы к тебе со всей душой, а ты… — басил Паша.
Вера не отвечала, сидела в кресле в гостиной и просто ждала, глядя в одну точку. Когда наконец за ними захлопнулась входная дверь, и в подъезде затихли шаги, в квартире воцарилась тишина.
Но это была уже не та, прежняя тишина её одиночества, и не та хрупкая тишина, что была с Леонидом. Эта тишина была другой, — тишина освобождённого пространства.
Не стала звонить Леониду сразу. Открыла настежь все окна, впуская в квартиру холодный, ноябрьский воздух, собрала в большой мешок весь мусор, который оставили: пустые пачки от чипсов, кошачью шерсть, дешёвый тюль с ромашками.
Потом она пошла в свою комнату, взяла влажную тряпочку и осторожно промокнула мокрый след на обложке отцовской книги. Пятно посветлело, но не исчезло совсем, осталось, как напоминание.
Долго наводила порядок, расставляла книги по своим местам, возвращала на стол фотографию родителей, протирала полированную поверхность до блеска. И только когда последняя вещь заняла своё законное место, она взяла телефон.
— Лёня, я свободна, приезжай.
Он приехал через двадцать минут, не спросил, что случилось, не стал говорить слов утешения. Просто вошёл в комнату, посмотрел на идеальный порядок на её столе, на её спокойное, уставшее лицо, и всё понял без слов.
Молча взял тряпку, которую она оставила на стуле, и начал помогать ей протирать книжные полки от строительной пыли, которую они нанесли. Это простое, молчаливое действие было красноречивее любых объятий и признаний. Он просто был рядом, вместе восстанавливали её мир.
На следующий день, собираясь в школу, Вера услышала телефонный звонок, номер был незнакомый.
— Алло, Верочка? Здравствуй, дорогая, это тётя Маша из Воронежа.
Дальняя родственница, которую Вера не видела лет пятнадцать.
— Верочка, у меня к тебе такая просьба… Мы тут с дочкой в ваш город на обследование едем, на пару деньков…
Вера слушала знакомые, вкрадчивые интонации и чувствовала, как внутри неё поднимается не гнев, а какая-то весёлая, ироничная усталость, не дала ей договорить.
— Извини, Маша, но нет.
— Как… нет?
— Просто нет, у меня другие планы, всего доброго.
И повесила трубку.