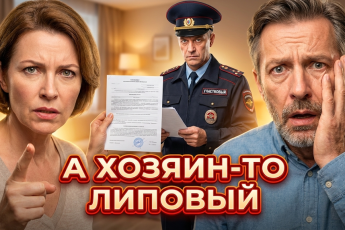— Катя, будь добра, освободи комнату до конца недели, — с порога заявила Ольга Николаевна, мачеха, сложив руки на груди.
Я замерла с кружкой чая в руках.
— Что? — переспросила я, не веря своим ушам.
— Всё ясно сказала. Ты выросла. Пора начинать самостоятельную жизнь. Мы с отцом обсудили — тебе будет лучше на съёмной квартире. — Она даже не потрудилась сделать голос мягче.
— Отец… согласен с этим? — голос дрогнул.
— Естественно! — ухмыльнулась она. — Он устал, понимаешь? У него сердце не железное. Столько лет тебя тянули на себе…
Я поставила чашку на стол, не чувствуя вкуса ни чая, ни воздуха в комнате.
Тянули на себе?
Я? На шее?
В голове пронеслись воспоминания:
Как я после школы носилась между репетиторами и подработками.
Как сама покупала себе книги, одежду, копила на телефон.
Как старалась не мешать. Как была тенью в этом доме.
И вот теперь — просто выставляют за дверь.
— Я… Я поговорю с папой, — выдохнула я.
— Конечно, поговори, — кивнула Ольга Николаевна, — только зря. Он всё уже решил.
Я поднялась в свою комнату.
Маленькую, узкую, с облезлыми обоями. Здесь я провела детство после того, как мама умерла. Здесь я пряталась от боли. Здесь я мечтала.
А теперь здесь я — лишняя. Лишняя в доме собственного отца.
Мама ушла рано.
Рак. Врачи боролись полтора года, но всё было напрасно.
Мне тогда исполнилось тринадцать. Я не умела плакать перед людьми, но в ту ночь, когда мама умерла, я выла в подушку, пока не слились день и ночь. Отец держался. Он похоронил её со стиснутыми зубами, не проронив ни слезинки. А потом — сломался.
Всё рухнуло незаметно: сначала он перестал приходить за мной в школу, потом забыл о родительском собрании, а вскоре перестал спрашивать, поела ли я.
Он был… где-то. В своей боли.
Я выросла сама. Ольга Николаевна появилась через два года. Я до сих пор помню первое знакомство.
Папа привёл её за руку, как ребёнка:
— Это Оля. Мы с ней познакомились на работе. Она хороший человек.
Я вежливо кивнула, сжимая зубы. Оля была на десять лет младше отца, яркая, звонкая, с искусственным смехом.
Я почувствовала опасность сразу. Но молчала.
Сначала Ольга Николаевна была ласковой. Пекла пироги, покупала мне футболки «на вырост», советовала как краситься. Я почти поверила, что всё будет хорошо.
А потом началось: упрёки за крошки на столе, насмешки над одеждой, косые взгляды, если я задерживалась после учёбы.
Папа не замечал. Он был счастлив: кто-то заботился о нём, кто-то готовил ужин, кто-то смеялась его шуткам.
А я?
Я стала мебелью. Чем-то, что стоит в углу и не мешает.
Когда мне исполнилось восемнадцать, Ольга Николаевна начала осторожно намекать:
— Катя взрослая уже. Надо бы ей подумать о съёмном жилье. Самостоятельность важна.
Папа отмахивался:
— Подожди. Учится же ещё. Пускай пока живёт.
Но время шло. И вот теперь — она добилась своего. Выставляет меня из дома.
И папа, который когда-то носил меня на руках, теперь стоит в стороне. Просто наблюдает.
Я долго не решалась. Сидела в своей комнате, перебирая фотографии: мама в саду, мама на кухне, мама и я — обе смеёмся.
Она бы не позволила…
Стиснув зубы, я встала. Подошла к двери кабинета. Постучала.
— Входи, — отозвался отец.
Я вошла. Он сидел за компьютером, в домашних шортах и вытянутой майке. Волосы растрёпанные, лицо осунувшееся.
Как будто постарел на десять лет за последние два года.
— Пап, — я подошла ближе, кутаясь в старую толстовку, — это правда? Ты действительно хочешь, чтобы я ушла?
Он молчал несколько секунд, не поднимая на меня глаз.
Потом глухо сказал:
— Кать, ты взрослая. Пора привыкать жить отдельно. Мы с Олей тоже хотим немного пожить для себя…
— Для себя? — я почувствовала, как в груди поднимается волна злости.
— Да, — тихо подтвердил он. — Ты же не маленькая.
Я хотела закричать.
Растолковать ему, как это выглядит: выбросить дочь, чтобы не мешала их новой «семейной идиллии». Хотела напомнить ему, кто рядом был, когда он ночами пил на кухне, глядя в одну точку.
Но что-то сломалось. Слова застряли в горле.
— А мама? — только и спросила я, глядя ему прямо в глаза. — Она бы тебя поняла?
Он вздрогнул.
Откинулся на спинку кресла.
— Не приплетай маму… — хрипло сказал он. — Жизнь не вернуть назад. И хватит жить воспоминаниями.
Я поняла: бороться бесполезно. Этот человек — больше не тот отец, которого я знала. Тот, кого я звала «папа», умер вместе с мамой.
Я вышла из кабинета на ватных ногах. За спиной хлопнула дверь. Словно выталкивая меня прочь.
На следующий день всё изменилось. Ольга Николаевна словно сбросила маску.
— Надеюсь, ты не забыла — у тебя неделя, — напомнила она за завтраком, поедая свой йогурт с видом хозяйки.
Я молчала. Каждое слово казалось куском стекла в горле.
— И, пожалуйста, не разбрасывай тут свои вещи, — добавила она, поджав губы. — Чемоданы — в комнате, пакуй аккуратно. Нам тут лишний мусор ни к чему.
Папа сидел напротив. Уткнулся в газету, сделал вид, что не слышит. Ни одного слова в мою защиту. Ни одного взгляда.
Вечером я попробовала поговорить с ним ещё раз. Хотя бы о сроках, хотя бы о помощи…
— Пап, — робко начала я, — я же учусь. У меня нет нормальной работы ещё. Мне сложно будет оплачивать аренду…
Он вздохнул, не глядя на меня.
— Мы с Олей думали… я могу помочь тебе первые два месяца. А дальше — сама.
— Сама… — эхом повторила я.
Сама. Сама искать жильё. Сама работать на износ. Сама бороться за выживание.
В восемнадцать лет.
Я зашла к бабушке, маминой маме. Её дом был далеко за городом, но, может быть…
— Бабушка, можно я временно у тебя поживу? Пока не найду работу получше?
Бабушка выслушала молча. Потом крепко обняла.
— Конечно, милая. У меня и угол найдётся, и тёплый плед. И чай с мёдом.
Я плакала в её объятиях, впервые за много месяцев. Не от обиды. От облегчения.
У меня всё-таки осталась семья.
Последнюю ночь в родном доме я провела без сна. Собирала книги, тетради, старые фотографии. Всё влезло в два чемодана и одну большую спортивную сумку. Вещи моей жизни.
И воспоминания, которые больше не хотелось брать с собой.
Утро было холодным и серым.
Я спустилась на кухню с двумя чемоданами, в куртке накинутой поверх домашнего свитера. На пороге стояла Ольга Николаевна. Складывала на столе тарелки с сырниками — для себя и отца.
— О, ты наконец-то собралась, — сказала она весело, как будто речь шла о переезде на курорт.
Я поставила сумки у выхода.
— Папа дома? — спросила я.
— На работе. Сказал, что лучше так. Без сцен.
«Без сцен.»
Как удобно. Не видеть, не слышать, не чувствовать. Я натянула на плечи рюкзак. Хотела просто молча уйти. Но Ольга Николаевна не позволила.
Она подошла вплотную.
— Запомни, Катя, — прошипела она, — в этой жизни выживают только сильные. Никто тебе ничего не должен. Даже отец. Ты — уже прошлое.
Я сжала ручки чемодана так крепко, что побелели пальцы. Хотелось что-то крикнуть. Разбить тарелки. Выбросить этот йогурт со стола.
Но я только посмотрела ей прямо в глаза. И сказала тихо:
— Я не ваше прошлое. Я — ваше будущее, о котором вы будете сожалеть.
Повернулась. Открыла дверь. На лестничной площадке было холодно. Пахло железом и осенней сыростью.
Я спустилась вниз, ступенька за ступенькой, с этими двумя чемоданами, сжав губы до боли. Навстречу мне поднималась соседка с пятого этажа — старая тётя Лена.
Она остановилась, посмотрела на мои чемоданы, на заплаканное лицо, на дрожащие пальцы.
И ничего не сказала. Только погладила меня по плечу. И в этом молчаливом жесте было больше поддержки, чем во всех словах отца за последние два года.

Я вышла на улицу. Небо было низкое, тяжёлое. Я сделала первый шаг в новую жизнь.
Одинокую.
Но свою.
Бабушка встретила меня на крыльце своего дома. Тёплый платок, натянутый на голову, глаза, полные слёз и радости одновременно.
— Проходи, Катюша, — сказала она. — Дом — он там, где тебя ждут.
Я зашла в этот маленький старенький дом с облупленной краской на окнах и вдруг впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности. Без уколов. Без насмешек. Без постоянного чувства вины за само своё существование.
Первые недели были тяжёлыми. Я искала работу, перебивалась мелкими подработками: разносила листовки, помогала на складе, писала курсовые за студентов.
Деньги были маленькими. Но каждый рубль был моим. Моим собственным. Моей собственной жизнью.
Папа не звонил. Ни разу. Я пыталась не думать об этом.
Иногда бабушка приносила конверты: письма от университетской администрации, счета за телефон. Никогда — ничего от него.
«Зато честно», — говорила я себе.
«Ты теперь свободна.»
Со временем я устроилась в небольшую типографию — оператором набора текста. Работа была тяжёлая, но коллектив — добрый. Платили немного, но стабильно.
Я сняла крошечную комнату на окраине города. Голые стены, продавленная кровать, старый холодильник.
И я была счастлива. Потому что это была моя территория. Моё пространство. Моя крепость.
Прошёл почти год. Однажды вечером, возвращаясь домой с работы, я услышала, как зазвонил телефон. Номер был незнакомый.
Я нажала на зелёную кнопку.
— Катя? Это я… папа, — голос был хриплый, чужой.
Я замерла.
— Прости, что не звонил раньше, — торопливо сказал он. — Я… Я не знаю, как всё так получилось. Оля ушла. Я остался один. Хотел спросить… Может, мы встретимся? Поговорим?
Я стояла посреди улицы, среди фонарей и шороха ветра. Молчание затянулось.
Потом я тихо сказала:
— Я рада, что ты вспомнил обо мне, папа. Но я не та маленькая Катя, которую можно загнать обратно в дом, если стало одиноко.
— Катюша, я… я хочу всё исправить…
— Пап, — перебила я его мягко, но твёрдо, — спасибо за то, что научил меня одному: в жизни можно рассчитывать только на себя.
— Может, мы хотя бы встретимся?
Я подумала. И ответила:
— Когда-нибудь. Но не сейчас.
Я положила трубку. Подняла голову к звёздному небу. И впервые за долгое время улыбнулась.
Я шла домой. В свой дом. В свою новую жизнь. Без чужого одобрения. Без страхов.
Свободная.
Сильная.
И счастливая.